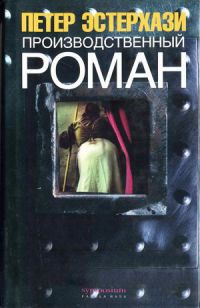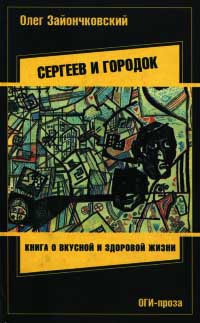Книга Harmonia caelestis - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тщательно готовя к поездке княжескую коляску, Менюш Тот продолжал ворчать, не в силах найти объяснение, чего это его светлость так весело улыбается и, вообще, почему допускает все это безрассудство.
Нечего и говорить, что багаж и набор белья моего отца поместились в повозку легко (все-таки не портфель!..). Тот управился с ним без труда. Тем временем графская семья, словно труппа любительского театра, разыгрывала сцену подготовки к веселой экскурсии. Они махали руками, носовыми платочками, всхлипывали, восторженно обнимались, включая и графа Цираки — оказавшегося тут же прадедова «соседа по меже». (Сосед по меже… Бог ты мой!)
63
От ужасного недуга умер и мой дядя (дядя Менюш), младший брат моего отца. Умирал он страшно, в тридцать два года, во время эпидемии полиомиелита 1954 года. Средство от этой болезни, вакцину Солка, начали применять ровно через три недели после его смерти. Неужто все зависело только от трех недель?! Он был очень похож на моего отца, только, в отличие от старшего брата, не отбрасывал на свою жизнь столь обширную тень. На всех фотографиях он смеется. Я не раз встречался с людьми, которые, узнав, кто я, тут же говорили:
— Я очень любил твоего дядю, — и внимательно вглядывались: в меня.
(«Я даже не пошел в больницу. В то время у меня уже был ребенок, и я боялся. А ведь он ждал меня. Я был еще молод. Боялся». — «Не надо плакать!») Я видел его письмо и сразу узнал знакомые в нашей семье словечки.
У дяди наступил паралич дыхательных путей, и его срочно доставили в Пешт, где был аппарат «железные легкие». Родители вызвали неотложку, но те посчитали, что случай не очень сложный. Отец матерился, чего почти никогда не делал.
«Железные легкие» — в то время мы часто слышали это выражение. Оно нас пугало. Мы пробовали представить себе, что это за штука, но вообразить это было невозможно: хрупкий ветвистый рисунок легких и некую чугунную печку — одновременно.
Как говорили родители, наша бабушка днями не покидала комнату, плакала и молилась. (Так, значит, последний раз она плакала не во время моего рождения. Когда я родился мертвым, она плакала первый раз, а когда умер Менюш — последний. Да нет, это бесполезно — считать, сколько раз человек плачет.) Между собой же они говорили о том, что бабушка тронулась умом, точнее, говорила об этом мать, отец только тряс головой.
— Как вы можете так говорить? — Они были то на ты, то на вы. (И то и другое могло быть признаком как нежности, так и раздражения.)
— Я маму не оскорбляю, я просто говорю о ней.
— Если так, то лучше не говорите о ней вообще!
— Ну как же, Матика! Она с ангелами разговаривает, и даже не разговаривает, а ведет с ними переговоры, чтобы они доставляли ей вести о Менюше… Сведенборг да и только… Сидит на кладбище и расчесывает себе волосы…
— Замолчите сию же минуту. Я настолько вас ненавижу в эту минуту, что меня тошнит! — Позднее, в знак примирения, он добавил: — Сведенборг ни при чем; эта графская линия Дегенфельд, насколько известно, всегда придавала преувеличенное значение мертвым…
Разговоры бабушки с ангелами продолжались в течение долгого времени. Вскоре в качестве посредников к этим беседам подключились цыгане, занимавшиеся поблизости производством саманного кирпича, они пообещали установить с ангелами прямую связь, а после некоторого увеличения гонорара — и с самим безвременно скончавшимся молодым графом. Насколько мы знаем, гонорар обрел форму фамильных драгоценностей. Так они и накрылись, насколько мы знаем.
64
Играть в качели можно было с отцом, он был сильный, а с дедушкой в качели играть не получалось — руки не те. У дедушки руки были совсем как у тети Мии — костлявые, тонкие, шелковистые, созданные не для игры в качели, а скорее для поцелуев. Но все же и с ним можно было поиграть в качели. Мы вместе усаживались на каменную ограду.
— Качели! — объявлял я, на что бывший премьер-министр Венгрии с достоинством кланялся, и мы начинали болтать ногами. («После того как он все потерял, твой дедушка стал очень милым и человечным». — Одна из моих тетушек, материнская линия.)
— Качели, — повторял дедушка, добавляя еще что-то о французской истории как таковой. Дедушка вообще любил размышлять о вещах как таковых. Об этом он либо переписывался со своим другом, «влачившим рабскую жизнь по соседству», как он выражался, — они писали друг другу, досконально воспроизводя те или иные моменты прошлого (из угрызений совести? к сожалению, вряд ли), — либо говорил об этом со мной.
— История Франции напоминает спектакль, на котором зрителей гораздо больше, чем исполнителей. Поэтому — издали — она кажется легковесной. Венгры же полагают, что на сцене никого нет, и, толпясь в фойе, горячо обсуждают давно отыгранные славные спектакли. Вот почему — вблизи — венгры кажутся самым высокомерным народом. А издали… издали их не видно.
65
Высокородная семья разыгрывала спектакль, вполглаза следя за эффектом. Провал был полный. Что хорошо в театре — там сразу все выясняется. Слуги неподвижно стояли вокруг них во дворе, с ледяным безразличием наблюдая за потугами хозяев. Стать героем в глазах своего слуги хозяину не дано. По мнению моего деда, за весь 1919 год это был единственный поистине революционный момент, да и тот спровоцировал он сам, собственной неуклюжестью.
Менюш Тот, один из Менюшей Тотов, закончил с погрузкой.
— Но, залетные, — вскричал кучер по имени мой дед. И, прежде чем вывернуть на усаженную столетними липами аллею, неожиданно развернул лошадей и сделал перед дворцом парадный круг; актеры широко улыбались, мой отец орал благим матом, народ стоял в презрительном ожидании.
Поскольку была опасность, что, несмотря на ямщицкий армяк, дедушку по высокой, худой и изящной фигуре все же узнают — ведь барин, он и в аду барин, а они как раз там и были, в аду, — километрах в тридцати-сорока от Чаквара он распрощался со своими, дабы не подвергать «святое семейство» еще большей опасности, и исчез в неизвестном направлении. Они остались втроем: моя бабушка, мой младенец-отец и его киндерфрау. Да, о тех временах позднее они рассказывали как о тяжелейших лишениях. Но хуже всего было с киндерфрау. О том, что такое лишения, они знали немногое. О том, что такое двадцатый век, не знали совсем. Говорили они о многом, о себе, о стране, о прошлом; они не знали великого безмолвия двадцатого века. И они, и те, кто уверен был, что судьба в их руках, о судьбе говорили, как о котенке: ну, конечно, царапается иногда, но все же котенок, кис-кис…
Держать судьбу в собственных руках — моему отцу это чувство было неведомо. Он знал лишь безмолвие.
Привыкшая к комфорту барских домов, киндерфрау все чаще стала высказывать недовольство суровыми обстоятельствами их «экскурсии». И через несколько дней бросила моего отца. Первая женщина, которая его бросила (имя не сохранилось).
— Ваше сиятельство, в вашем доме я прослужила уже три весны и полагаю, что просто обязана требовать определенного уровня, — и с брезгливым видом она показала окрест: на безлюдную поляну косо, как на иконах, падали лучи света, поодаль темнели вековые дубы, густые заросли, кругом — море всяческой зелени, словом, большей красоты и придумать трудно; разумеется, не салон. — И главное, — продолжала фрау, — все это я говорю не в интересах собственной безопасности или личного комфорта, нет, а из уважения и почтения, которые я разделяю со всей нацией и которые привязывают меня, как лично, так и по статусу, к этой высокородной фамилии.