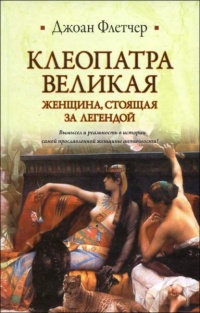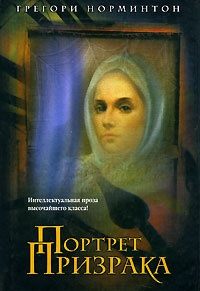Книга Клеопатра, или Неподражаемая - Ирэн Фрэн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но с этим мужчиной каждое утро все приходилось начинать заново; и, что бы царица ни предпринимала, она не могла уловить в глазах своего возлюбленного отблеск той великой надежды, которой вдохновлялась сама.
* * *
Тем не менее она пробовала все, не отставала от него ни на шаг, была рядом, когда он тренировался в гимнасии, беседовал с людьми, когда вдруг решал устроить учение для своего маленького военного эскорта, поиграть в кости, поохотиться на уток в тростниковых зарослях Мареотийского озера, поудить там рыбу, когда пил до утра, когда инкогнито бродил по улицам Александрии, — сопровождала его повсюду. И даже когда на Антония нападала тоска — это внезапное отвращение ко всему, от которого его взгляд становился тусклым, как у умирающего, — она умела одним словом вернуть его к жизни.
Он не мог ей противиться, даже в такие мгновения, потому что она уже знала в общих чертах все его наклонности, например, любовь к переодеваниям (это была настоящая страсть, как некогда у Флейтиста, и он находил ей применение даже на войне) — свойство, которое у римлян встречается нечасто. Но он, Антоний, всегда смешивал жизнь и игру и в этом действительно походил на греков; можно было подумать, что в нем самом есть что-то женское, как во многих актерах.
Что ж, Клеопатра тоже станет актрисой, она сбрасывает тунику Исиды, надевает поношенное платье слуги и заключает пари с Антонием, что в таком виде, переодетая мужчиной, пройдет по улицам Александрии.
Какая царица до нее осмеливалась на подобное? Ни одна. Ну и что? Клеопатра же говорила, что она неподражаема…
Скоро ночь, пробил час, когда последние гуляки, сморенные усталостью, собираются, наконец, укладываться спать. Антоний тоже облачается в маскарадный костюм, парочка незаметно выскальзывает из дворца и отправляется в рейд по спящим улицам. Оба, как всегда, изрядно выпили, это точно. Они выбирают первую попавшуюся дверь, начинают барабанить в нее, зовут на помощь, выкрикивают ругательства. За переплетами окон появляются мужские и женские головы. Царицу и Антония принимают за тех, кем они и хотели казаться: за подвыпивших слуг. На них обрушивается град оскорблений — и дождь нечистот. Перепачканные с ног до головы, они делают непристойные жесты, кричат громче; тогда двери распахиваются, выскакивают какие-то люди с дубинами в руках, любовники убегают прочь по темным переулкам, продолжая вопить на ходу. Весь квартал просыпается, приключение слишком затянулось; шутники, запыхавшиеся, но умирающие от смеха, растворяются в ночи.
На другой день все, конечно, должно повториться. Но повторение не получится таким же забавным: у него будет привкус déjà vu[96]. Действительно пикантным — неподражаемым — было бы, если бы они позволили себя поймать, отколошматить как следует и при этом вовремя унесли бы ноги. Кто — Антоний или царица — предложил такое пари, мы не знаем. Известно лишь, что любовники вновь переоделись и разыграли под каким-то окном свою маленькую комедию. Антоний, как и обещал, позволил себя поймать. Его отдубасили на славу, как лист папируса; только потом он сказал, с кем они имеют дело. Он был сплошь покрыт синяками — но пари выиграл.
На следующее утро слух о ночном маскараде разошелся по всей Александрии. Однако вместо того, чтобы возмутиться, возненавидеть царицу за ее детскую шалость, как они ненавидели Флейтиста, вместо того, чтобы обличать Антония, как когда-то обличали Цезаря, горожане стали смеяться — они тоже хотели поучаствовать в этой пьесе, вписать свою часть сценария в этот фарс.
Когда в последний раз Александрия любила своих владык? Несомненно, во времена первых Птолемеев, Филадельфа и Арсинои, которые основали Библиотеку и Мусейон, построили Фаросский маяк. А когда горожане испытывали дружеские чувства к римлянину? Такого прежде вообще не было.
Зато теперь ни одна кошка не бросалась в ноги Антонию, ни одной злой насмешки не звучало, когда он проходил по улицам; если к нему и обращались с шуткой, то как к приятелю, и в жанре, который он любил: это были грубоватые, бьющие точно в цель остроты. И он отвечал в том же тоне, всегда находил нужное слово, ибо прекрасно знал и греческий язык и самих греков.
Так что когда Антоний поворачивался спиной, тот из присутствующих, кто отваживался что-то о нем сказать, обычно величал его великим актером, достаточно одаренным, чтобы играть трагедийные роли в Риме и комедийные — на улицах Александрии. Подобные слова в Золотом городе — лучший комплимент. В самом деле, говорили они, этот римлянин — презабавный. А царица, сделавшая его своим любовником, неподражаема; это так же верно, как то, что она сама об этом заявила.
И вот, каждую ночь вся Александрия не спит и ждет: не вернутся ли царица и ее любимый, чтобы опять поиграть в прятки. Ожидания никогда не бывают напрасными: эти двое приходят. Устраивают новые проделки, еще более забавные, чем старые; и теперь весь город придумывает ответную шутку, она срабатывает, все кругом хохочут, держатся за бока от смеха; горожанам, как и любовникам, кажется, будто они снова нашли путь радости.
Александрия в такой же мере забывчива, в какой царица влюблена. Серия кровавых убийств во дворце, тяготы войны — все растворяется в этом детском празднике; и горожане, как и царица, убеждают себя в том, что в Антонии, столь похожем на Диониса, они, наконец, обрели единственного бога, который способен затмить славу Александра, самого неподражаемого из всех завоевателей.
Но только уж кто-кто, а гениальные полководцы определенно не имеют права на забвение, по крайней мере на длительное; Антоний же, отдавшись потоку удовольствий, которые предлагала ему Клеопатра, не хотел видеть ничего, кроме текущего мгновения.
Взять хотя бы этот случай с рыбалкой, когда не было клева. Клеопатра, как всегда, сопровождала Антония. Он чувствовал себя униженным от того, что ему не везло в ее присутствии. И хотел любой ценой спасти свое реноме; поэтому шепнул одному рыбаку, более удачливому, чем он сам, чтобы тот, когда царица отвернется, нырнул под воду и незаметно прицепил к крючку Антония свою рыбу.
Этот маневр, конечно, не укрылся от Клеопатры. Но она притворилась, будто ничего не заметила; а на другой день, когда Антоний пожелал вновь подразнить рыбок, вместо того, чтобы думать о более серьезных вещах — например, о парфянах, которые, по слухам, уже замышляли новый набег, — царица подготовила для него нравоучительный урок в своем стиле, басню без слов. Он хочет рыбачить — что ж, они отправятся на рыбалку; а там будет видно, что он поймает.
В самом деле, не успел Антоний забросить удочку, как леска натянулась. Окрыленный успехом, он бросился на свою добычу. Но вытащил всего лишь понтийскую вяленую сельдь — из тех, которые продаются целыми бочонками на пристанях Александрии, — к тому же вонючую. От неожиданности он потерял голос — и всю свою радость. Клеопатра рассмеялась: «Удочки, император, оставь нам, государям фаросским и канопским. Твой улов — города, цари и материки». Шутка-предостережение…
Впрочем, зима уже кончалась, и Клеопатра, видимо, адресовала свою побасенку не только Антонию, но и самой себе. Сезон любви близился к завершению, она это знала: на горизонте, за спиной статуи Исиды Фаросской, небо очистилось от облаков; а в порту уже готовились к церемонии открытия навигации.