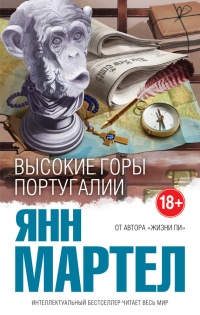Книга Солнцедар - Олег Дриманович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сначала ехали через тесные, холмистые окраины — район Бытха, где налезали друг на друга аккуратные белёные домишки. Потом через центр, тут уже появлялся некий архитектурный простор, державшийся на раздрае стилей. Художественный музей, напоминающий греческий Акрополь; здание цирка, похожее на супницу; модерновый концертный зал «Фестивальный» с крышей-трамплином; в духе скупого конструктивизма тридцатых — рубленая коробка ЦУМа с неработающим фонтаном при входе; пара-тройка новеньких многоэтажек. Солнечно-парковый, домашний, уютный, беспощадно-зелёный, с резными тенями на тротуарах и щёлкающими о пятки шлёпанцами отдыхающих, — ординарный, в общем, советский городишко, — если б не липкий туман с моря и пышная субтропическая растительность. Хрущёвки, утопающие в магнолиях и олеандрах, — разве не чудо?
Алик любил что-нибудь «сбацать» — словечко Яна, склонявшего друга явить очередной кулинарный изыск. Особенно удавались мичману салаты на скорую руку. Всё смешивалось со всем, и получалось не просто съедобно — чертовски вкусно.
— Мурз, сбацай макароны по-флотски.
В салат «макароны по-флотски», кроме спагетти, входили бананы, помидоры, паприка, зелёный горошек, грецкие орехи, лимон, сыр, петрушка. Никита и представить себе не мог, что несовместимое может так аппетитно сочетаться. Ингредиенты подбирались тщательно, исключительно с рынка. Алик долго вертел какой-нибудь болгарский перец в руках, мял, гнул, барабанил, придирчиво подносил к носу, разом обнюхивая и считывая по чёткости отражения качество продукта. Убедившись в первосортности, азартно торговался, ломая самых неуступчивых продавцов. В повадках его и без того сквозило немало хлопотливо-женского, а тут вылезала настоящая базарная баба.
— Какое ж это бычье сердце? — привередливо косился на исполинские помидоры, — мелюзга, горох. — Разве ж это виноград — шкура хоть сапоги шей.
Сбив цену, мягчел, проворно убирал в пакет томаты-переростки и нежнейший кишмиш. Приглашал лотошника в Арзамас:
— Приезжай в гости. Зайдём на наш рынок, поймешь, что такое «бычье сердце».
До овощей и городских видов Никите особого дела не было. Шататься с Мурзяновым меж базарных развалов он увязывался с несколько иной целью. Новое место лучше изучать не по фасадам, по лицам, — подсказывал богатый опыт его гарнизонного кочевания. Где, как не на рынке, настоящие типажи, созвучные духу здешней земли? Духу жаркой сочинской земли были созвучны и тяжёлые грузинские подбородки, и вислые еврейские носы, и печальные армянские глаза. Здесь торгуют даже ассирийцы с греками, сообщал этнограф Алик. Ни греков, ни ассирийцев, впрочем, Растёбин не увидел, как ни докучал мичману. Мурзянов тыкал в заурядных, облепленных чумазыми детьми цыган, спутать которых нельзя было ни с кем. Хотелось, наконец, поглядеть на натурального сочинца. А лучше, чтоб ослепила взором красавица-сочинка.
— Если видишь бледного, как мука, значит, местный, — авторитетно заявлял Алик, — какие-нибудь финны, наверное, и те черней; тутошние не загорают.
Никита принимал мурзяновские слова за чистую монету, записывая в тутошние всех неопределенной расовой принадлежности бледнолицых и матовокожих полукровок (до матовости хоть должны подвяливаться?) с глазами, изнуренными вечным поиском тени.
Девушки попадались и впрямь ослепительные. И каждый раз он был убежден (никаких сомнений) — перед ним уж точно коренная. Мурзянов бился за какой-нибудь сельдерей, Никита тем временем выискивал красоту. Особо утруждаться не приходилось, на квадратный метр её было больше, чем в Москве.
Часам к десяти Алик затаривался. Они брали ещё трехлитровку бочкового жигулевского и шли — в руке по авоське — через весь город к воде, чтобы там, на обрывистом берегу, выпить пива с воблой. Солнце уже высоко, бисквитный корж тротуара проседает под ногами, мимо течёт благодушная курортная толпа. Кто приезжий, кто местный было уже не разобрать. В сравнении с суетливыми столичными пешеходами, затравленной рысцой перемещавшимися по асфальту Москвы, здешние советские граждане казались Растёбину настоящими патрициями, вальяжно прогуливающимися после приема терм. Сколько, интересно, в их раскрепощённости — от моря и солнца? Сколько — от нового времени? Пропорция была сложной, слишком много погрешностей: смех в южном воздухе звучит звонче, движения раскованнее, улыбки сочнее, прямей позвоночник. Относительно точным признаком того, что раскрепощённость навеяло не только южным климатом, были женщины за тридцать и дети лет до семи. По сравнению с Никитиным поколением, нынешние чада казались более говорливыми, любопытными, подвижными, наглыми. У женщин читалось проснувшееся после многолетней советской спячки желание выделиться из толпы. Улица взрывается вдруг ядовитой вспышкой, отчаянная модница лет тридцати пяти, облачена в какой-то ядовито-зелёный балахон, идет с горделивым вызовом, притягивая обалделые взгляды и создавая заторы.
Сильный пол по части раскрепощённости проигрывал и тем и другим. Если и просматривалась какая в облике вольность, то лишь от алкогольного градуса и зноя. От нового времени были разве что редкие бермуды и гавайки.
Расплавленный воздух дрожал, ходил пластами, смягчая обветшалую реальность сочинских видов. Тем летом, от свалившейся на страну свободы, всё выглядело и без жары несколько поведённым. Аномалию Никита мог бы разгледеть еще в Москве, столицу словно затопило нечто особое, чуть прозрачней и невесомей воздуха — свобода, нахлынувшая так внезапно, в таком избытке, будто желала остаться непонятой, уценнной до бьющих через край радостей лета. Казалось, вольница, проникающая во все уголки страны, началась именно с юга. На центральной площади Сочи, вовсю гоняли шарик напёрсточники; хироманты предлагали народу слазать в карман; целители в подворотнях снимали порчу; видеосалоны зазывали на каждом шагу; аляповато цвела реклама; люди сбивались в кучки, разглагольствующие о политике; город полнился слухами о том, что главный сочинский пляж вот-вот станет нудистским; активно пошли в народ сумасшедшие. У местного почтамта они с Аликом стали свидетелями забавной картины. В окружении зевак неряшливо-бородатый парень, замотанный в простыню, с честными глазами вещал, что он Иисус, и только что свершилось его долгожданное второе пришествие. Кто-то усмехался, подтрунивал — а по воде, по воде, можешь?! — но большинство внимало ему с видом деревенских простофиль. Доказательства предъявлялись мессией одно сильнее другого: маму зовут Марией, папа тоже плотник.
Этот пестрый балаган удивлял, манил, пугал, остерегал: «Будь начеку!», веселил, сбивал с толку и, хотя не отвечал ни на один вопрос по существу, без особых усилий убеждал, что находится ближе к тому, что называется естественным, живым, нормальным, человеческим ходом вещей, нежели тот унылый дремотный покой, что повсеместно царил ещё совсем недавно.
Рядом с «Фестивальным» берег круто обрывался. Они усаживались на самый край: под свешенными ногами — стена песчаника с ласточкиными гнездами, — а где-то там, далеко, на стыке воды и неба — зыбкое марево, как газовый занавес в Турцию, в саму Азию. За ним глазу уже чудятся очертания мечети Айя-София, окружённой стрелами минаретов. Хлебали прямо из банки, глядя сквозь днище-телескоп на турецкий берег, и видели, как мираж Айя-Софии накрывается жёлтой пивной болтанкой.