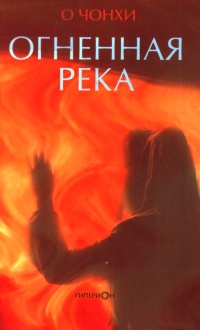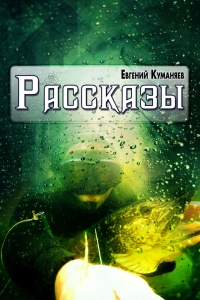Книга Анархисты - Александр Иличевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Петя, Петя, прекрати, Яков Борисыч не хотел тебя обидеть. Ведь сам знаешь…
– Ясно. Заеду. Поговорим.
Соломин дал отбой и перевернулся на живот. «Не хочу я звонить сестре. Пусть сами хлопочут», – подумал он. Замужем за лесопромышленником, много лет осваивавшим вместе с ней восточные пределы Архангельской области, сестра его совмещала в своей натуре доброту и цинизм, властность и мягкость. Шесть лет сидя в инвалидной коляске после автомобильной аварии, она при этом оставалась энергичной управляющей крупной лесной империи. После смерти родителей Наталья Андреевна стала особенно строга с братом, уверяя, что мстит ему за отнятое детство. Она считала, что Петр не способен завоевать расположение судьбы, радовалась дружбе его с Дубровиным и старалась способствовать ее укреплению.
«Итак, надо все внимательно взвесить и решить. Возьму с собой снаряжение, краски, попрошу Капелкина забросить меня за Барятино или еще дальше, километров за сорок, чтобы вернуться не скоро, даже если тут же захочу… Денег ей не оставлю. Или оставлю?.. На йогурты. Перед отъездом надо купить продуктов… Но все равно… Что это решит? Только отсрочит. А что если завалиться к ней и предъявить ультиматум? Как же его сформулировать?.. Да чего уж… А не пойти ли к Дубровину за советом? Опять у него Турчина застану или стану говорить о неведомом – ну как ему объяснить, что меня мучает? Может ли еще какой мужчина испытывать то, что испытываю я? Вот эту смесь униженности, отчаяния, влечения… Нет, я не могу все это в себе превозмочь, отсечь это можно только вместе с ее телом. Но как, как смириться с отказом, как преодолеть бессилие? Ведь надо же жить… как-то жить. Зачем? Чтобы исправлять себя, мир? Себя не исправишь, мир слишком велик. А как жил Левитан? Ведь тоже был порывистый, африканской страсти человек, стрелялся даже из-за какой-то зазнобы… А что если мне тоже попробовать? Ну, ранить себя, а она пожалеет, любовь ее очнется… А если не пожалеет? В лес, бежать!» – пробормотал он, поднявшись и шагнув к двери.
Уединенность и обширность лесного края, стремление реки – всё, казалось, служило прибежищем, было способно оживить его мечту, помочь вернуться к себе, но он уже не верил, что природа поможет воскрешению из морока, захлестнувшего его в последний год. Теперь он только бесчувственно вспоминал свое намерение писать каждый день, каждый ясный вечер проводить в роще, в лесу, на реке, поджидая последний луч солнца, когда, по убеждению Левитана, в природе разливается сокровенная печаль. Соломин с юности надеялся открыть новую категорию пейзажа, как произошло, когда на смену романтическому, классическому пейзажу Калама и Пуссена пришел пейзаж экзистенциальный. Он учился в художественной школе, и только там очень короткий период в своей жизни чувствовал себя в своей тарелке, хозяином, производителем некоего нового смысла. Но время зажало его в угол, новая эпоха требовала практичности, и сестра убедила родителей уговорить его поступать в архитектурный институт. Там ему, как и Левитану в Академии живописи, восклицавшему: «Я не хочу знать человека! Зачем мне его кости?» – никак не давался академический рисунок, а законы проекции, черчение доводили до белого каления. Соломин уже тогда стал томиться и охотно бросил учебу, но не для того, чтобы снова вернуться к живописи. Для полнокровной жизни нужны были деньги. Он занялся торговлей японской звуковой аппаратурой в спорткомплексе «Олимпийский» и первые три года ради товарных закупок регулярно летал в Дубай, Белград, ездил на грузовике в Сочи, где садился на паром до Стамбула. Ему нравилась шальная, исполосованная лезвиями ультрафиолетовых кислотных интерьеров московская свобода (в танцклубах в те времена была мода на ультрафиолетовое освещение: считалось, что в нем наркоманы не способны различить собственные синеватые вены; никто не собирался ширяться у всех на виду, Москва тоннами глотала экстази, но мода есть мода – ей бы только побахвалиться); ему нравилось черное ирландское пиво столичных баров, нравилось, что завершалась старая эпоха, что кончилось тоскливое детство, пахшее осыпавшейся после Нового года хвоей и лыжной смолой, нравилось быть в дороге, увлекала смена попутчиков и впечатлений. И все равно он страдал от призрачных дней, чья пустота тонкой струйкой размывала его мозг и душу. Он чуял, что совпавшая поначалу с созреванием его сознания волна нового времени скоро разобьется о скалу будущего, не одолеет берег – и новая эпоха не начнется. Он предчувствовал: когда наступит пора спрашивать себя о сделанном, ему нечего будет ответить. Пересекая Черное море, затем вглядываясь в череду кораблей, проходящих Босфором, Соломин воображал, что скоро достигнет берегов Италии, что стоит еще немного заработать денег, и он сможет уехать навсегда в Европу, чтобы стать живописцем. Ему нравилось вспоминать, что кто-то из великих говорил, будто только на Апеннинском полуострове можно стать настоящим художником, хоть Левитан и презирал это превозносившее Италию мнение: «Чем пальма лучше елки?»
Понемногу торговля развивалась, Соломин стал закупать товар фурами в Польше и Финляндии, но весь его капитал канул в одночасье, когда был застрелен начальник таможенного управления, чьи услуги он накануне оплатил на год вперед. Все благосостояние Соломина – четыре сорокафутовых контейнера с телевизорами, стоявшие на таможенном терминале в ожидании снятия пломб, – было конфисковано. Как сказал ему водитель одной из фур, черный от дорожной грязи мужик с негнущимися пальцами-брусками (водители, томясь в ожидании оформления документов, жили на терминале в кабинах своих тягачей, пили водку и жарили картошку с салом на паяльной лампе): «Хозяин! Беда – сатана. Богатство – срам. Бедность – храм…»
Далее последовали годы полулегальной обналички, завершившиеся двумя атаками правоохранителей; во второй раз Соломин во избежание Бутырки лишился трех четвертей своего капитала. Через полгода, придя в себя, стал заниматься операциями с ценными бумагами, управлением активами. Вместе с товарищем еще по торговле аппаратурой, коренастым бородачом Сыщенко, они начали строить честную компанию, были предельно внимательны с клиентами и нанимали в аналитический отдел изголодавшихся в академической среде прикладных математиков, которые разрабатывали систему оценки рисков. Но и это начинание закончилось плачевно. Тогда Соломин и понял, что счастье на потом не отложишь. Уцелевшие деньги он тратил теперь на строительство мечты и целый год умудрялся быть счастливым…
Сейчас он весь состоит из боли и тоски, безумия и боли. Сейчас только бежать – в лес, к себе, к краскам, он уже не помнит их запах. Мастерская стоит недостроенная, надо приняться за нее… Но сначала бежать.
В два часа Соломин вынул из духовки запеченную с веточками розмарина форель, слил воду с отварного картофеля, уронил на него кусок сливочного масла, посыпал укропом, растертым с чесноком и солью, и позвал к столу Катю.
– Мне нужно поговорить с тобой, – сказал Соломин, постучав в дверь ее мансарды.
Соломин не помнил, когда они последний раз обедали вместе. Он бы и сегодня не пытался звать ее к обеду, но намерен был объявить о своем уходе. Он поставил перед ней тарелку – и застыл на мгновение, потому что услышал, как пахнут ее волосы. «Какой прозрачный, васильковый, что ли, запах…» Он покраснел и занес над ее затылком дрожащую руку. Не видя, что происходит у нее за спиной, Катя повела плечами и спросила: