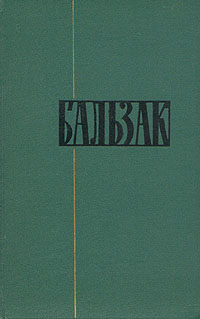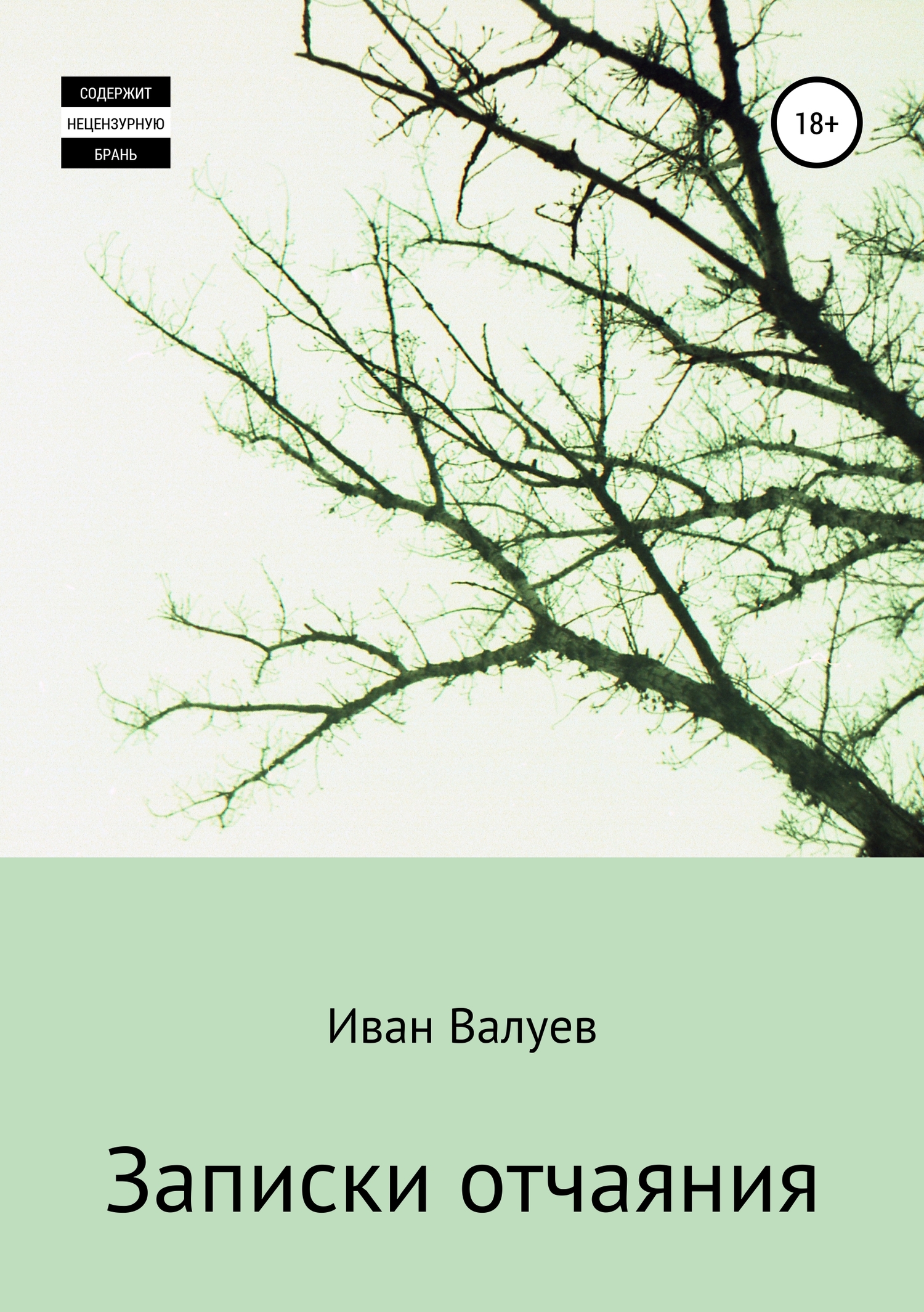Книга Музей «Калифорния» - Константин Александрович Куприянов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А с друзьями следует переписываться умной речью. Это потом издадут — по-другому невозможно — и белым стихом прозовут. Вот нас шестеро за столом, хотя, когда я представлял себе, — думал, будет больше, но вот все сложено в будущем, и нас шестеро, и один потеряется сразу, пятеро останутся: двое сделаются друзьями, а потом врагами, двое сделаются любовниками, а потом мужьями, а я один сижу, я в центре пятерки. Я всегда один, в центре, и в этом нет ценности, это данность, в этом нет ростка гордыни, однажды надо взглянуть на вещи так, будто случилось это все не со мною, не в моем единственном космосе, не проводящем ни звуков, ни тепла, признать: здесь будущее, оно наступило, здесь род ставит точку, взваливает невероятный груз на плечи одинокого, но только он пришел сюда не для горести, так что никогда не горюй. Всегда наблюдатель, будто это я поэт, а не добрая Попутчица — но я не пишу стихов, я пишу только рассказы: самозабвенно, будто могу однажды что-то выдумать, чего не встречалось на исследованных мной планетах и астероидах; выдумываю постоянно, иду с неискренними намерениями в чужие космосы и не признаюсь в том, что затаил за спиной, сжатым в кулак. Любая воплощенная книга в конечном счете — припорошенная правдой ложь, — я протаскиваю частичку подлинности в усложняющееся, многослойное искусство, это искушение, это вязкий танец ума посреди умом не облицованных образов.
«Я вор», — рассказываю, как извлекаю, внимательным прищуром просматривая, безвестные мысли безвестных людей, слишком несоединенных с собою, поэтому никогда не записавших — это их книги я записываю и за свои выдаю. Мне постоянно кажется, что я ворую не только книгу, но и славу книги. Будто была когда-то у меня какая-то «слава», будто она вообще существует, будто она вершина, куда можно подняться — все это вздор. Впрочем, Попутчица зевает: я для нее простой, и скучный, и слабый. Она переспала со мною ради мести, а для меня это событие галактического масштаба, и я скрываю по привычке. Она моя первая женщина — после моей первой женщины, бывшей после моей невесты, которая на «до» и «после» разрезала жизнь. Как жаль, что книга не рассказывает жизнь, а только историю. Расслаиваются рассказчики, герои — меня утягивает по единственно возможному тоннелю истории, я ей ведьмак — создатель и слуга Ведьмы.
Рядом в этом полустанке, куда случайно завела нас история, другие слепые старательные шахтеры в своем ритме, на своем наркотике раскапывают тоннель. Конец мира придет, если однажды мы прокопаем всю землю и останемся в огромной, как гномье царство, зале (ненавижу, вслед за мамой, крестьянское «зала») из речи, из историй, и мы укрепим своды раскопанной почвой, потеряем путь наружу, а потом и память о том, что было что-то вне нашего подземелья. Как настоящие гномы, зайдем так далеко, в кропотливую работу над полостью в сердце горы, чахнуть станем над золотом, усыпляя понемногу в себе силу. Следующие люди станут раскапывать эту гору (для них — тривиальную гору книг, папирусов и скрижалей), извлекать на поверхность кубышки с подземным воздухом, крутить на свету и цокать языками: «О, а это неплохая история», расставлять на полках по градации от «великого» до «бессмыслицы» творения предков‐дикарей, от бриллианта до черной, ничего не стоящей истлевшей породы, расставят немногих найденных, а некоторых даже изобразят — тех, кто в янтаре запечатлелся. Так кончится добровольное заточение зарывших себя в железное царство.
Железная гора есть и в полустанке, вобравшем нас с Попутчицей на последнюю нашу ночь. Прорыты шахты и тоннели рабочим людом и роботом-разведчиком. Понемногу, пока движется разведка, человеческий труд и здесь дешевеет настолько, что выгоднее использовать человека для потребления соцсети, чем для утомительной геологической работы — справится машина. Я очень неумел в этом деле, хотя вообще-то и чувствую многое, чувствую ее тело, она врастает спиной в мою грудь и живот, и мне надо только держать подольше и быть с ней, и держать ее за тонкие испачканные пальцы, и она тоже держит меня, и постепенно даже самая ленивая страсть врастает в обобщающий космос, из которого вышло все с первым взрывом и куда вернется после многих огненных спиралей расширения. Ты не нуждаешься ни в объяснении дыхания, ни в страсти, ни в покое, потому что дышишь перманентно. Нельзя объяснить мысль, потому что та снует без передышки, и тяжелым трудом бывает узнать, что ты — вовсе не мечущаяся в черепушке обезьянка. Гномы-писатели едят землю, запихивают ее в себя, чтобы превратить малоценную почву в драгоценный камень, чтобы появился просвет, затем тоннель, затем зала, затем царство и, наконец, бездна — забвение.
Железная гора — это единственная возвышенность тут на десятки горизонтов вокруг. Мы попали в ее тень, съехав с восьмой трассы на полпути, истощенные знойным днем и однообразием разговора. Свернули, чтобы помолчать на противоположных краях двух унылых мотельных постелей. За горой — очередное море пустоты, где камни, никогда не встречавшие прикосновения человека, но однажды и пустоте приходит конец, и за долиной встретит нас город Феникс. Я везу Попутчицу, чтобы она встретилась со своим L. Они встретятся на жалких полтора часа — зачем я вез ее столько дней и столько слов пролил между объятиями?.. Уже с утра меня скрючивает приступом ревности. Казалось, еще утро назад мы извивались, как две змеи, в любви, в единстве, а теперь она отбрасывает меня ненужной чешуей и уходит, словно я не знал, что всегда был средством транспортировки в объятия любимого, который причинит ей настоящую боль — не то что я. Мне она не нужна, свой удел я знаю, однако спазм жадности силен, я слуга желаний, я желаю полностью обладать, превращать ее, чтобы служить ей, чтобы потом проклясть ее и сбежать от нее обратно