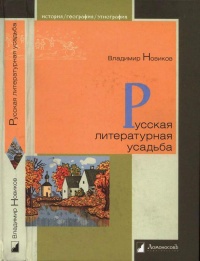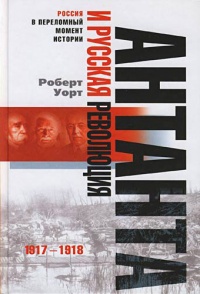Книга Русский Париж - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Одежда, духи, дефиле. Дефиле, духи, одежда. Вся жизнь брошена под ноги моде, толпе, что любит моду больше жизни. Вся трагедия века — любовь к красоте. За эти красочные, роскошные дефиле не кровью ли заплачено?!
Нет, не кровью… не-е-е-ет! Деньги шуршали… деньги манили…
Произнес онемелыми, неслушными губами:
— Век… век выходит… люди, разные… всякие… толпы народа… на подиум… Вся Европа… ногу заголяет… груди из корсажа торчат!.. Нате, возьмите!.. купите… Купите меня!.. меня!..
Крутились юбки. Вспыхивали воланы. Торчали голые тощие плечи из вороха тряпок. Блестели ожерелья на худых страшных шеях.
— Вас… не кормят!.. нарочно… мои манекенщицы… вас — голодом морят!.. чтобы любое… слышите, любое платье на вас налезло…
Толпы шли, накатывались. Подиум трещал под натиском сотен, тысяч ног. Стучали острые каблуки. Громыхали сапоги. Самая модная — военная форма. Надо шить военные платья. Девчонки, слышите?! Вы все пойдете в бой! Надушенные моими духами! Намазанные моей помадой! И в моих, в моих одежонках…
— Я — гениальный японец!.. я покорил Париж… Я его — задушил!.. и он — труп… труп…
Толпы народу на узком, как змея, подиуме плясали канкан. Толпы вопили и кувыркались, и голые ноги — выше головы, и бьются веера, и диким дождем брызгают духи. Жизнь — веер. Ее развернули и обмахиваются ею! А кто обмахивается?! Смерть?!
— Ну и что, война… Война — пройдет… А я — останусь!.. и меня поцелует новая мода… новая…
Наглая полунагая девчонка, плясавшая на краю подиума, подплясала слишком близко к нему. Крикнула ему в лицо:
— Тебя забудут!
И пьяный Юкимару повалился с кресла на пол, на колени, и цеплялся крючьями пальцев за стол, и тащил на себя скатерть, консервы, рюмки, бутылки, и пачкался в прованском масле, и скрипел зубами, и ревел, как бык.
* * *
Пустота. Ничто. Серый цвет пустоты.
Серый ветер над серою розой Парижа.
Отцвела. Сухие лепестки. Сейчас опадут. Что останется?
Города не вечны. Они отцветают и опадают, вянут и сгорают.
Горстка пепла. Горстка людей, они еще верят, что их город вечен.
Война, и все вливается в пустоту, в яму страха.
Что будет? Что дальше?
А дальше — пустота.
Молчание.
И взрывы, и пожары, и вопли, и свист пуль, и черный дым печей, где жгут людей — все в темноте; все в пустоте; все в мертвой тишине.
* * *
Мать Марину арестовали и отвезли в гестапо.
Когда ее везли в машине — она глядела в запыленное окно на дома, на памятники и фонтаны, на Париж, что стал домом и упованием, и думала: гестапо, яма, ведь выхода нет оттуда.
Исхода нет.
На допросе крестилась. Офицер бил ее по рукам. Когда перекрестилась снова — привязал ей руки к табурету, и офицер ударил по щеке. От сильного удара мать Марина вместе с табуретом свалилась на пол. Зашибла бок и щеку. Апостольник сполз с затылка, обнажились темные, с проседью, волосы. Из угла рта текла кровь. Офицер надсадно завопил:
— Ты, русская хрюшка! Укрывала в доме евреев?!
— Поднимите меня, — сказала мать Марина.
Ее подняли. Еще долго допрашивали и били.
Офицер пинал ее в бок сапогами.
Когда она потеряла сознание — вылили на нее полведра холодной воды.
Устали бить и кричать. Мать Марина разлепила распухшие губы. Медленно, тихо сказала:
— Не только до семи, но до семижды семидесяти семи раз… прощать врагу…
— Говори по-французски! — проорал офицер.
— Pardonnez moi, — сказала мать Марина.
Ее прямиком из гестапо, с другими парижанами — евреями, французами, русскими, поляками, испанцами, валлонцами, англичанами, — в коровьем товарняке отправили в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Вагон качало, мать Марина спала на соломе, и мирно, тепло пахло навозом. Плакал ребенок. В дороге умирали люди — от страха и голода, и трупы выбрасывали в отворенные двери на ходу поезда.
* * *
В Равенсбрюке очень страшно. Пусто. Особенно страшны крыши бараков. Хочется взобраться на крышу, протянуть руки к небу и попросить: небо, возьми меня к себе без боли, без унижений.
Все знали — у ограды крематорий, и печь работает круглые сутки. Она ела людей, это была ее пища. Люди не противились тому, чтобы стать пищей. Мать Марина думала: а если восстать, если броситься грудью на проволоку под током? Пусть прошьют огнем. Все лучше быть расстрелянным, чем сожженным.
«Три отрока в пещи Вавилонской… три отрока в пещи… три отрока…»
Руки занимала, как в Париже, как обычно: ей раздобыли клубки ниток, она вязала детям и старухам носки — холодно спать, замерзают тут люди во сне, без одеял, на нарах. Обрывки ниток оставались, она вышивала маленькую икону Спасителя. Спас Нерукотворный — на квадрате холстины, вырезанной из лагерной робы. «Господи, убрус Твой священный я, недостойная, сегодня вышиваю суровой нитью, вервием на рогоже. Господи, и в златые бессмертные нити превращается жалкое вервие. Не дай душе умереть. Тело убьют; сгинуть душе не дай».
Вызывали поутру на перекличку. Каждого пятого — отбирали: шаг вперед! Рядом с матерью Мариной стоит девочка. Лет десять ей. Глаза по плошке. Дешевые сережки в ушках. Надзиратель косится, думает — золотые. Погонят в печь — раздеться заставят. А серьги из ушей — грубо, с мясом, выдерет. Ей будет очень больно. Очень.
Да она уже плачет.
«Кто знает, Господи, может, спасется она».
Мать Марина шагнула вперед.
Девочку спиной закрыла.
— Я пойду вместо нее, — по-немецки громко сказала.
Женщины тихо заплакали. Обреченные стояли кучкой, жались к стене. Мать Марина тоже встала к стене, вместе с ними. Вынула из-за пазухи недовышитую икону. Спас глядел строго и властно, Всезнатель, Вседержитель. Монахиня протянула кусок холста с ликом Господним девочке. Отсрочка? Завтра ее сожгут? Пускай. Сегодня она будет жить.
Девочка, утирая нос кулаком, взяла вышивку и затолкала себе за кофтенку.
— Schnell! — крикнул солдат с автоматом наперевес.
Потянулись. Долго шли через весь лагерь, и мать Марина удивилась — какой он большой. Все стало громадным, чудовищным: время, сараи, часовые у ворот. Изрыгала черный вонючий, жирный дым высокая труба крематория. Ее зев тонул в тучах. Длинная серая людская змея извивалась, вползала в черно раскрытые последние двери.
«Да, последние Врата: и се, вниду в них».
Вошли. Пахнуло сладкой гарью. Куча одежды в углу. Раздевались медленно, как можно медленней. Голые тела синели, дрожали, женщины закрывали груди и животы руками. Мужчины плакали. «Рицца стерегла тела убитых сыновей своих, отгоняла от них воронов хищных розгой и волков пустынных, а здесь?! Тел не будет; черный пепел. И кости истлеют. Как тела наши восстанут на Страшном Суде?!»