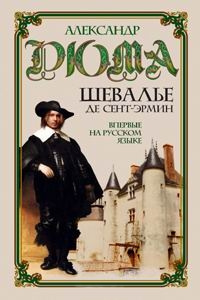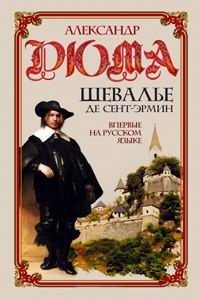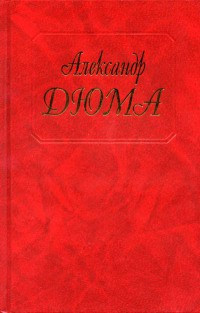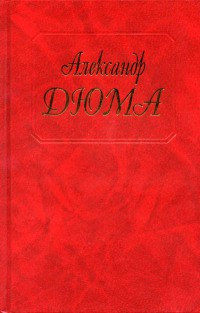Книга Сорок пять - Александр Дюма
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Господин д'Эпернон тотчас велел снять с себя сапоги и, вместо того чтобы разъезжать по городу с тремя десятками всадников, последовал примеру своего августейшего повелителя и лег спать, никому не сказав ни слова.
Один только Луаньяк, которого даже крушение мира не могло бы отвратить от исполнения обязанностей, обошел караулы швейцарцев и французской стражи, несших службу добросовестно, но без особого рвения.
На другое утро Генрих, пробудившись, выпил в постели четыре чашки крепчайшего бульона вместо двух и велел передать статс-секретарю де Виллекье и д'О, чтобы они явились к нему в опочивальню для составления нового эдикта, касающегося государственных финансов.
Оба государственных мужа тревожно переглядывались. Король был настолько рассеян, что даже чудовищные налоги, которые они намеревались установить, не вызвали у его величества и тени улыбки.
Зато Генрих все время играл с мастером Ловом, и всякий раз, когда собачка сжимала его изнеженные пальцы своими острыми зубами, приговаривал:
— Ах ты бунтовщик, ты тоже хочешь меня укусить? Ах ты подлая собачонка, ты тоже покушаешься на твоего государя?
Затем Генрих, притворяясь, что для этого нужны такие же усилия, какие потребовались Геркулесу, сыну Алкмены, для укрощения немейского льва, укрощал мнимое чудовище, которое и было-то всего величиной с кулак, с неописуемым удовольствием повторяя:
— А! Ты побежден, мастер Лов, побежден, гнусный лигист, побежден! Побежден! Побежден!..
Это было все, что смогли уловить господа де Виллекье и д'О, два великих дипломата, уверенных, что ни одна тайна человеческая не может быть скрыта от них. За исключением этих речей, обращенных к мастеру Лову, Генрих все время хранил молчание.
Наконец пробило три часа пополудни.
Король потребовал к себе господина д'Эпернона.
Ему ответили, что герцог производит смотр легкой коннице.
Он велел позвать Луаньяка.
Ему ответили, что Луаньяк занят отбором лимузинских лошадей.
Полагали, что король будет раздосадован, но, вопреки ожиданию, он принялся насвистывать охотничью песенку — развлечение, которому он предавался только тогда, когда был вполне доволен собой.
Затем Генрих спросил полдник и приказал, чтобы во время еды ему читали вслух назидательную книгу. Вдруг он прервал чтение вопросом:
— Жизнь Суллы написал Плутарх, не так ли?[54]
Чтец читал книгу духовно-нравственного содержания; когда его прервали вопросом, касавшимся мирских дел, он с удивлением воззрился на короля.
Тот повторил свой вопрос.
— Да, государь, — ответил чтец.
— Помните ли вы то место, где историк рассказывает, как Сулла избег смерти?
Чтец смутился.
— Не очень хорошо помню, государь, — ответил он, — я давно не перечитывал Плутарха.
В эту минуту доложили о его преосвященстве кардинале де Жуаезе.
— А! Вот кстати, — воскликнул король, — явился ученый человек, наш друг; уж он-то скажет нам это без запинки!
— Государь, — молвил кардинал, — неужели мне посчастливилось прийти кстати?
— Право слово, очень кстати; вы слышали мой вопрос?
— Ваше величество, Сулле, погубившему множество людей, опасность лишиться жизни угрожала только в сражениях.
— Да, припоминаю: в одном из этих сражений он был на волосок от смерти… Прошу вас, кардинал, раскройте Плутарха и прочтите место, где повествуется о том, как благодаря быстроте своего белого коня римлянин Сулла спасся от вражеских дротиков.[55]
— Государь, излишне раскрывать Плутарха; это событие произошло во время битвы, которую он дал самниту Телезину и луканцу Лампонию…
— Теперь объясните мне, почему враги никогда не покушались на столь жестокого Суллу? — спросил король после недолгого молчания.
— Ваше величество, — молвил кардинал, — я отвечу вам словами того же Плутарха.
— Отвечайте, Жуаез, отвечайте!
— Карбон, заклятый враг Суллы, зачастую говорил: «Мне приходится одновременно бороться со львом и с лисицей, живущими в сердце Суллы; но лисица доставляет мне больше хлопот».
— И он прав, кардинал, — заявил король, — он прав. Кстати, раз уж речь зашла о битвах, имеете ли вы какие-нибудь вести о вашем брате?
— О котором из них? Вашему величеству ведь известно, что у меня их четыре!
— Разумеется, о герцоге д'Арке, друг мой…
— Нет еще, государь.
— Только бы герцог Анжуйский, до сих пор так хорошо умевший прикидываться лисицей, сумел бы хоть ненадолго стать львом!
Кардинал ничего не ответил, ибо на сей раз Плутарх ничем не мог ему помочь: многоопытный придворный опасался, как бы его ответ, если он скажет что-нибудь лестное для герцога Анжуйского, не был неприятен королю.
Убедившись, что кардинал намерен молчать, Генрих снова занялся мастером Ловом; затем, сделав кардиналу знак остаться, он встал, облекся в роскошную одежду и прошел в свой кабинет, где его ждал двор.
При дворе, где люди обладают таким же тонким чутьем, как горцы, которые остро ощущают приближение и окончание бурь, настроение соответствовало обстоятельствам.
Обе королевы были, по-видимому, сильно встревожены.
Екатерина, бледная и взволнованная, раскланивалась на все стороны, говорила отрывисто и немногословно.
Луиза де Водемон ни на кого не смотрела и никого не слушала.
Вошел король.
Взгляд у него был живой, на щеках играл румянец; выражение лица, казалось, говорило о хорошем расположении духа, и на хмурых придворных, дожидавшихся королевского выхода, вид Генриха подействовал, как луч осеннего солнца на купу деревьев, листва которых уже пожелтела.
В одно мгновение все стало золотистым, багряным, все засияло.
Король поцеловал руку сначала матери, затем жене. Он наговорил множество комплиментов дамам, уже отвыкшим от такой любезности с его стороны, и даже простер ее до того, что попотчевал их конфетами.
— О вашем здоровье тревожились, сын мой, — сказала Екатерина, пытливо глядя на короля, словно желая увериться, что его румянец — не поддельный, а веселость — не маска.