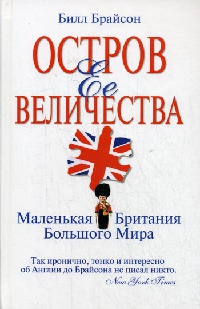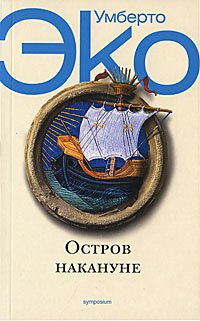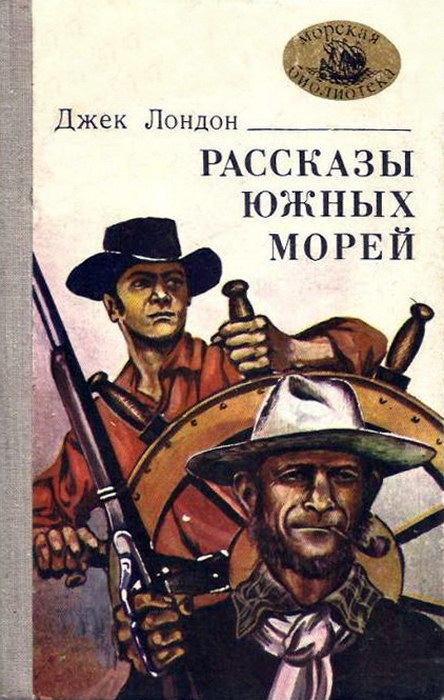Книга Остров фарисеев. Фриленды - Джон Голсуорси
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Что с тобой? Тебе холодно? Надень мою куртку.
И он накинул куртку ей на плечи, как она ни сопротивлялась. Ей никогда еще не было так тепло и приятно, как теперь, когда он своими руками укутал ее в эту шершавую куртку. А часы пробили два.
В слабом свете, проникавшем через стеклянную крышу, она могла разглядеть его лицо. И тут она почувствовала, что он тоже вглядывается в нее и видит все, что у нее в душе, видит ее глубокое доверие, которое светится в глазах.
Светлое пятно на темном полу, бледный отсвет на темной стене – вот и все освещение, но и его было довольно, чтобы они заметили, как старый дом обступил их со всех сторон – и снизу и сверху – и сторожит; казалось, в этой черноте живет какой-то дух, и Дирек еще крепче сжимал ее руки, когда до них доносился легкий скрип и потрескивание старого дерева, которым время отмечало свой ход.
Насупленный взгляд старого дома, мудрого, циничного свидетеля многих безвозвратно ушедших жизней, растраченной юности и забытых поцелуев, несбывшихся надежд и обманутого доверия, возбуждал в них желание еще крепче прильнуть друг к другу и с трепетом заглянуть в тайну будущего, хранящего для них столько радости, любви и горя.
Внезапно она дотронулась пальцами до его лица, нежно, но настойчиво ощупала волосы, лоб и глаза, повела руку дальше – по выдающимся скулам вниз, к подбородку, и назад, к губам, и по прямому хрящу носа обратно к глазам.
– Теперь, если ослепну, тебя я все равно узнаю. Поцелуй меня еще раз, Дирек. Ты, наверно, устал.
Поцелуй этот, под сенью старого темного дома, длился долго. Затем на цыпочках – она впереди, а Дирек за ней, – останавливаясь при каждом шорохе и затаив дыхание, они разошлись по своим комнатам. А часы пробили три.
Глава XVI
Феликс, как человек вполне современных взглядов, примирился с мыслью, что верховодит теперь молодежь. Его мучили всякие страхи, и оба они с Флорой не хотели расставаться с дочерью, но что поделаешь – Недда вольна распоряжаться своей судьбой. Дирек по-прежнему скрывал свои чувства, и если б не безмятежно-счастливое лицо дочери, Феликса одолели бы те же сомнения, что и Недду в первый вечер. Феликс чувствовал, что племянник слегка презирает людей, пропитанных таким благодушием и так избалованных вниманием общества, как Феликс Фриленд, поэтому он предпочитал разговаривать с Шейлой: она была не мягче, но у нее он хотя бы не замечал презрительной повадки ее брата. Нет, мягкой Шейлу нельзя было назвать. Эта девушка, яркая, с копной черных волос, прямолинейная и резкая, тоже была нелегкой гостьей. В те десять дней, что племянники гостили у него в доме, улыбка Феликса стала особенно иронической. Они и забавляли его, и приводили в отчаяние, и эти чувства достигли своей высшей точки в тот день, когда у них обедал Джон Фриленд. Мистер Каскот, приглашенный по настоянию Недды, находил, видимо, какое-то злорадное удовольствие в том, чтобы подзадоривать брата и сестру в присутствии чиновного дядюшки. Во время этого обеда Феликсу оставалось только одно утешение, но, увы, не слишком большое: наблюдать за Неддой. Она почти не участвовала в разговоре, но как слушала! Дирек тоже говорил мало, но все его замечания были пропитаны сарказмом.
– Неприятный юноша, – заявил потом Джон. – Откуда, черт побери, у нашего Тода такой сын? Шейла – попросту одна из нынешних взбалмошных девиц, но в ней по крайней мере все понятно. Кстати, этот Каскот тоже довольно странный субъект.
Среди других тем за обедом был затронут вопрос о моральной стороне революционного насилия. И, собственно говоря, возмутили Джона следующие слова Дирека: «Сперва раздуем пожар, а о морали можно будет подумать потом».
Джон ничего не возразил, только посмотрел на племянника из-под вечно нахмуренных бровей – слишком часто ему приходилось хмуриться, отклонять прошения у себя в министерстве внутренних дел.
Феликсу слова Дирека показались еще более зловещими. Он увидел в них нечто большее, чем просто полемический выпад: ведь он куда лучше Джона понимал и натуру племянника, и обе точки зрения – официальную и бунтарскую. В этот вечер он решил прощупать Дирека и выяснить, что скрывается в этой кудрявой черноволосой голове.
Наутро, выйдя с ним в сад, он предостерег себя: «Никакой иронии – это может все испортить. Поговорим как мужчина с мужчиной или как двое мальчишек…» Но когда он шел по садовой дорожке рядом с этим молодым орленком, невольно любуясь его смуглым, горячим сосредоточенным лицом, Феликс начал с ни к чему не обязывающего вопроса:
– Как тебе понравился дядя Джон?
– Я ему не понравился, дядя Феликс.
Несколько сбитый с толку, Феликс продолжал:
– Вот что, Дирек, к счастью – или несчастью, – мне придется тебя узнать поближе. Надо и тебе быть со мной пооткровеннее. Чем ты собираешься заниматься в жизни? Революцией ты Недду не прокормишь.
Пустив наудачу эту стрелу, Феликс тут же пожалел о своей опрометчивости. Взгляд на Дирека подтвердил, что ему есть чего опасаться. Лицо юноши стало еще более непроницаемым, чем всегда, а взгляд еще более вызывающим.
– Революция сулит немалые деньги, дядя Феликс, и притом чужие.
Черт бы побрал этого грубияна! В нем что-то есть! Феликс поспешил переменить тему:
– Как тебе понравился Лондон?
– Он мне совсем не нравится. А все-таки, дядя Феликс, разве вам самому не хотелось бы оказаться здесь снова в первый раз? Подумайте, какую бы вы книгу смогли написать!
Феликс ощутил, что нечаянный удар попал в цель. В нем вспыхнул протест против застоя и подавленных порывов, против ужасающей прочности своей слишком солидной репутации.
– Какое же все-таки впечатление произвел на тебя Лондон?
– Мне кажется, его следовало бы взорвать. И все как будто это понимают – во всяком случае, это написано на всех лицах, – а ведут себя как ни в чем не бывало.
– А за что его взрывать?
– Что может быть хорошего, пока Лондон и другие большие города тяжкими жерновами лежат на груди страны? А ведь Англия, вероятно, когда-то была хороша!
– Кое-кто из нас думает, что она и сейчас неплоха…
– Разумеется, в каком-то смысле и сейчас… Но