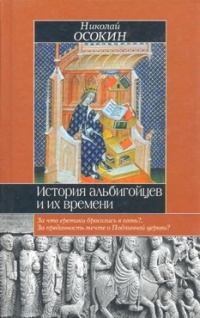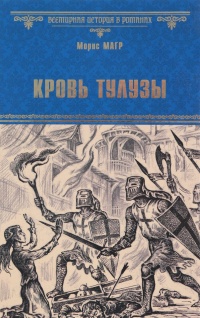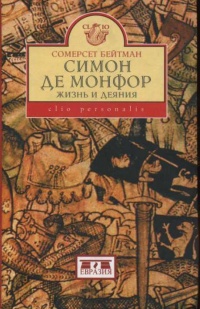Книга История альбигойцев и их времени. Книга вторая - Николай Осокин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наконец, имеем ли мы право считать несомненным принципом ту теорему, что централизация — безусловно необходимая ступень для достижения народного благосостояния? Отчего бы не могло образоваться в пределах Юга, при живучести, обилии и разнообразии общественных сил, особой и самостоятельной цивилизации, способной при национальных условиях создать те же основные элементы, какие достигнуты централизацией, направляемой завоеваниями? Во всяком случае, покорение и неразлучное с ним применение насилия способны были очернить собой даже чистые стремления, а известно, что Альфонс не принадлежал к тем государственным людям, которые руководятся идеалами и сеют благо лишь для будущих поколений.
Как бы то ни было, тогдашние народные памятники провансальской поэзии, к которым мы должны теперь обратиться, исполнены ненависти к французскому владычеству. Народ потерял вместе с независимостью политическую и религиозную свободу, свободу действовать и свободу мыслить. Нельзя потерять большего. Потому он считал себя вправе негодовать. К злобе присоединилось отчаяние, которому нельзя не сочувствовать. И содержание, и характер провансальской поэзии решительно из меняются.
Вместо описаний турниров и праздников встречаем мрачные повествования о кровавых бойнях, казнях, эшафотах. Вместо любви к дамам трубадуры воспевают ненависть к французам и монахам. Их негодующая муза во вторую половину этого столетия обращена на Церковь и государство в одинаковой степени. Трудно сказать, что им было противнее — французы или папа. Завоевание долго представлялось хищническим набегом, а монах — разбойником. Можно заметить только, что ненависть к католическому духовенству была прочнее и сохранилась дольше, потому что оно было главной причиной народного несчастья. Плач о потере независимости льется в горячих, неудержимых стихах по всей земле от Тулузы до Марселя.
«Отныне провансальцы облекутся в траур, — восклицает Аймери де Пегвилья. — Вместо власти доброго синьора они подчинились королю... О, Прованс, Прованс, какой стыд и поношение! Ты потерял радость, счастье, славу, спокойствие, веселье и попал под иго французов. О, лучше бы умереть всем нам... Разорвем скорее наши знамена, разрушим стены городов наших, сломаем башни замков наших. Горе, мы стали французскими подданными! Мы не должны носить более ни щитов, ни копий. Какие мы воины?» (23)
«И это называется помогать Церкви: наводнять нашу землю французами, — поет тулузец Анельер, — привести их туда, где быть они не имеют никакого права по тысяче своих нечестивых дел; мечом они губят христиан, несмотря на их происхождение и язык; они хотят одолеть свой век. Духовенству это нипочем; вместо проклятия они посылают французам благословения и дают им целый мир в награду за злодейства» (24).
«С горьким чувством пишу я эту сирвенту, — плачет другой патриот. — Сам Бог не знает про те мучения, какие испытываю я. Кто может передать их! Я страдаю дни и ночи, во сне и наяву одна мысль томит меня... Французы обирают донага провансальцев — это жалкое и несчастное племя, они им не оставляют ни медяка. Они отнимают у них земли и не платят ничего. Рыцарей и воинов пленными ссылают как разбойников, а когда те умрут, то берут все их добро. Но кто убивает, от меча и погибнет... Куда ни оглянусь, везде мне слышится, как придворные рабы твердят: "Господин, господин", низко кланяясь французам и увиваясь за ними. Французы везде; они завоеватели и в этом все их право. О Тулуза, о Прованс, о земля Ажена, и вы, о Безьер, Каркассон — чем вы были и чем стали теперь?»(25)
Каждую попытку свергнуть французское иго трубадуры восторженно приветствовали; они с трепетом ждали исхода восстания и своими стихами возбуждали воинский дух тех, кто боролся за независимость. Идя в бой, рыцари и горожане пели эти стансы Пернаса:
«У меня есть лук и дубина, я пущу стрелу, чтобы она достигла самых далеких пределов. Позор английскому королю, который допустил выгнать себя из своих земель; на него должно пасть первое мщение. Смертельно я ненавижу Иакова Арагонского, который постыдно изменил и бросил нас одних без помощи. Арагонцы не хотят оставить своей борьбы с маврами, чтобы отнять у французов их завоевания. Вот Эмерик Нарбоннский поступает иначе, как следует храброму человеку, — и я люблю его. О если бы только кто-нибудь помог нам, мы бы освободились; французы рассеялись бы тогда, а граф (Раймонд VII) уверовал бы в себя, и не пошел бы ни на мир, ни на сделку. Сильные люди спокойно переносят свой позор, и вот лучшая часть земель порабощена оружием французов. Но не удастся же им счастливо владеть тем, что они злодейски отняли у стольких доблестных баронов. Война, война, я люблю тебя больше жизни, больше, чем свою возлюбленную; ты даешь пищу и праздник веселью; тобой наполнены песни; ты делаешь из виллана рыцаря. Да и как не любить тебя? Дождемся, кто начнет эти битвы и истребления! Скоро послышатся удары мечей, будут развеваться конские хвосты и гривы; падут стены и башни, а замки сравняются с землей» ".
Но восстание не удалось. Юг покорно склонил свою голову. Он безмолвен пред грозной силой. Однако мысль о свержении ига долго не покидала его.
Вот один марсельский поэт передает в плавных стихах свою грустную беседу на берегу тихого ручья с бедной пастушкой; в образе последней легко узнать олицетворение погибающей национальности Прованса. Она была прекрасна и, склонив голову, сидела одна под зеленым дубом, забыв про своих ягнят, которые паслись в стороне. Скромно она отвечала на приветствие поэта:
«Бог да хранит вас от всякого зла, синьор».
Поэт вступает в разговор.
«Скажите, — спросила она, — почему наш граф купается в крови провансальцев; зачем он делает столько зла, когда мы в ответ не делаем ему ничего плохого? Он пошел на войну с Манфредом[47], за что же он хочет обидеть его и лишить наследства, когда тот никогда не был его вассалом и не обязывался ему ничем?»
«Гордость ослепила анжуйского графа, — отвечал поэт, — оттого он так безжалостен к провансальцам. Клирики для него как лук для стрелы, они послали его ограбить короля, который истинно доблестен и любит подвиги. Меня утешает только одна надежда, что доблесть никогда не даст одолеть себя честолюбию. Если только воины Манфреда сплотятся вокруг его знамени, то французы наверное погибнут».
«Но что же думает славный юноша арагонский (Иаков); что он не возвращает себе того, что принадлежало его отцам? Он храбр и любезен; о, как бы я хотела, чтобы он пришел к нам и прогнал этих французов с нашей земли. Как бы рада я была, если бы этот благородный юноша соединился с молодым Эдуардом Заморским (то есть английским принцем[48]). Оба они одного происхождения, этот дом славился храбростью».
«Да, да, — соглашается трубадур, — эти принцы благородны и храбры. Не следует им спокойно смотреть, как лишаются они своего законного наследия. Скорее бы пустить в дело наши шлемы и искристые кольчуги» (26).