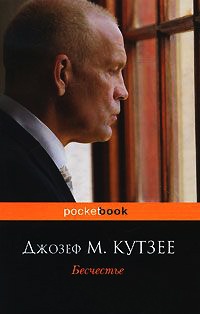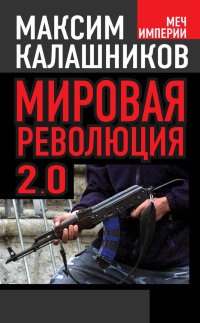Книга Соучастник - Дердь Конрад
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ну, если честно, в своей жизни он столько отвечал на телефонные звонки, которые предназначались не ему, а мне. В таких случаях он, как добросовестный секретарь, сообщал мой правильный номер. С почты книги приносили, деньги. Газетчики просили дать интервью, приходили приглашения на посольские приемы, ревнивые мужья грозили набить морду, школьники хотели послушать воспоминания о партизанском прошлом, чокнутые изобретатели требовали устроить международный скандал, чтобы они получили свой патент, редакции энциклопедий пытались узнать у него биографические данные; как-то ввалилась толпа цыган, требовала, чтобы он вступился за их товарища, который ни в чем не виновен, а его обвиняют в грабеже; одна девушка приехала из провинции спросить, выходить ли ей замуж и рожать ли детей. Или, может, сделать что-нибудь для того, чтобы изменить мир; тогда — что именно? Он же всех этих людей, все звонки, все письма и посылки переадресовывал мне, потому что все они попадали к нему — вместо меня.
Сейчас он хотел бы спросить, хотя ответ знает заранее: не случалось ли такого, чтобы наоборот, его искали у меня. Нет? Ни разу? Ну вот видите. Разумеется, он не передавал мне оскорбительные слова звонящих анонимов, которые обзывали его то паршивым коммунистом, то паршивым контрреволюционером, грозили повесить, разбить поганую голову; не пересылал он и анонимные письма, которые информировали мою уважаемую жену о, может быть, несколько более тесных, чем это необходимо, отношениях ее мужа с другими дамами. Он остерегался устанавливать со мной контакт по телефону, желая избежать даже видимости, что человек, который временами вступает в конфликт с законом, ему не только однофамилец. За всю жизнь его лишь однажды вызывали в полицию, и то всего лишь как свидетеля транспортного происшествия, но для него и этого было вполне достаточно. Слыхал он о людях, которые до войны фигурировали в газетах, а после войны их за это подвергли преследованиям. По его мнению, лучше вообще нигде не фигурировать.
Человек должен выполнять дело, которое на него возложено, оставаться незаметным и посвящать себя семье. Детей ему судьба не дала. Жили они хорошо, вот только жену рано унес гепатит. Все так быстро произошло, что он и сейчас понять ничего не может. У вдовца жизнь пустая. Задумывался он и о том, стоит ли завидовать мне, однофамильцу. Но потом услышал, что я в больнице, с психикой у меня что-то. И тогда он решил, что не стоит завидовать: у него-то с психикой все в порядке. Устный счет у него до сих пор идет прекрасно: в уме считает, как калькулятор. И, уж коли так случилось, что мы вот так сидим и беседуем, он хотел бы спросить: не жалею ли я, что моя жизнь не текла так же тихо, как его? Что я мог ответить ему? «Туда, где мы оба с вами окажемся, милый вы мой господин Т., ни один из нас ничего с собой взять не сможет. Больше движения — больше суеты; не будем друг другу завидовать. Если задуматься, никто не хотел бы поменять свою жизнь на жизнь другого человека. Я рад, что мы с вами познакомились; я позвоню, когда соберу наших однофамильцев». Я прощаюсь; хозяин квартиры в дверях задерживает мою руку в своей. «Вы только затем пришли, чтобы познакомиться, господин Т.? Со мной? Только потому, что у нас имя и фамилия одинаковые?» Я пристально смотрю ему в глаза. «Только затем», — лгу я. «Да, да. Бывает ведь такое: ты находишь друзей и в старости?» Я убираю руку из его потной ладони. «И даже за день до смерти, господин Т.». Спускаясь по лестнице, я ощущаю спиной его взгляд; нет, если не понадобится, он доносить не станет. Я оглядываюсь, он приветливо машет рукой. Возле дома мне удается поймать такси; сначала я говорю: на вокзал, но, когда мы проезжаем несколько сотен метров, спрашиваю, сколько он возьмет, если отвезет меня в Ш., за сто двадцать километров от Будапешта. Молодой шофер называет сумму; столько у меня есть, даже еще останется; хорошо, едем прямо в деревню. Я сажусь боком, подняв колени, угощаю шофера сигаретой и время от времени поглядываю назад. «Никто за нами не едет», — говорит шофер, сделав несколько поворотов. Наши взгляды встречаются в зеркале заднего вида, я всматриваюсь в него: нет, с улыбкой его все в порядке. Через полтора часа, еще засветло, я высаживаюсь на околице деревни, у ворот кладбища.
20
Я иду по тропинке между могил. На краю кладбища, на вершине холма, стоит плакучая ива, под ней стол, дубовая скамья и водопроводный кран: если ты проделал большой путь, чтобы навестить своих покойников, здесь ты можешь посидеть и перекусить, как на экскурсии. Деревня внизу мягкими щупальцами расползается в разные стороны по складкам долины. Удивительно здесь хорошо. Перед встречей с Дани подарю себе несколько минут покоя. Справа, огибая белый колпак скалы, вырытые в грунте ступени ведут в пещеру. В ней порхает над пробивающимися из недр водами летучая мышь, красная плесень покрывает стены. Тысячелетние сталактиты и сталагмиты за сто лет вырастают всего на один сантиметр, в их истории двадцатый век еле заметен. Полуголый человек с седой бородой ползает по скальной вершине, обрабатывает ее со всех сторон молотком и резцом. Двадцать лет он стучит, как дятел, высекая фигуры каменных птиц; с посетителями он не разговаривает. Из клиники к нему регулярно ходит одна сиделка, приносит немного еды, ждет, пока он обратит на нее внимание; потом они исчезают в буковой роще. На склоне горы — санаторий, рядом — искусственное озеро с холодной водой; на каменистом берегу озера — лежаки. Загоревшая дочерна, в купальном костюме встает с лежака заведующая санаторием, с сонной уверенностью направляется в сауну. Женщин, мужчин она мнет на массажном столе с одинаковой энергией. Она не делает различий между смазанными кремом частями тела, для нее нет ни красавцев, ни уродов, — только тела, которым приятны ее ладони. На околице деревни начинается крестный ход; луг заполнен автобусами, стадом легковых машин. Под хоругвями, во главе со своими священниками, идут кучками пожилые женщины из соседних деревень, встают в очередь перед исповедальнями, установленными вокруг лесной часовни. Проверка микрофона, священники будут сменять друг друга каждый час, всю ночь будут звучать проповеди. Кружится карусель, вопят, зазывая народ, продавцы вина, горячих лепешек, турецкой тянучки, перочинных ножей и шелковых платков. На другой стороне долины шевелится десятитысячная толпа, сигналит, пробиваясь через нее, автобус с телевизионщиками, деревня гудит: ко всем приехали гости. В деревне живут красивые люди, в турецкие времена на рабовладельческих рынках они шли по хорошей цене. Красива и сама деревня; готическая колокольня построена целиком из дерева, без единого гвоздя. Меж домами бегут широкие ручьи, их можно перейти по положенным в ряд камням, вода крутит колеса, в ней плавают утки, нежатся буйволы, на берегу сидят шахтеры-астматики, которые по утрам дисциплинированно дышат целебным воздухом на шезлонгах в пещере. Молодежь — высокая, стройная, нарядно одетая. Парни хотят уложить девок, но жениться хотят на девственницах, поэтому девки не очень-то потакают парням: лучше они будут танцевать друг с другом, высоко поднимая руки, в пивной под деревьями. Человек со следами ожогов на голове дует в свистульку, спрятанную в руке; на подземном строительстве его ударило сжатым воздухом, теперь он играет в корчме за плату — несколько стаканов вина. «Ты да я, Жужи, — говорит он старухе карлице, которая собирает на столах пустые стаканы, — ты да я глядим на мир божий снизу». Рядом с ним играет на контрабасе старый цыган, он играл еще при дворе царя-батюшки, большевики собирались было его расстрелять, но потом он и для них играл. Старую свою лошадь, спрятанную в лесу, он навещает каждую ночь. Когда-то он соблазнил в кукурузе красивую девку-батрачку, а в жены не взял. Девка выучилась, стала ученой старухой, разных наук и ремесел освоила больше, чем любой мужик. Организовала прядильню, виноградник у нее есть, в хлеву ревет племенной скот, она и ветеринара не зовет, до локтя засовывает руку в коровье нутро. Старый цыган иногда для нее играет — и боится ее сильнее, чем страшного суда. Дом врача, нарядный, с башенкой, был построен недавно, вокруг него — железная ограда с узором под павлиньи перья. Жена врача ходит в церковь, сам он — в вечерний университет марксизма и по вечерам — в сельскую библиотеку играть в тарок. Он приносит с собой вино, поэтому его место — во главе стола. Господа за игрой хвастливо рассказывают, кто как обманывает жену; но, когда врач поведал, как он пощечинами погнал на аборт свою ассистентку, которая забеременела от него и собралась было сохранить ребенка, мнения застольной компании разделились. Я сворачиваю в свою покатую, немощеную улочку; ко мне подбегает Лебедь, беспородный кобель, я чешу его белесые лохмы. Он следит за порядком на улице: рычит на черные длинные юбки набожных старух, подозрительных чужаков прогоняет; но, когда здесь был Дани, Лебедь лег перед ним на спину, выпрашивая ласку. Я просовываю руку в щель, отодвигаю засов на калитке; из сада ведет в дом кухонная дверь, ключ от нее я спрятал под толстым пнем; Дани знает, что я держу его там. Ключа нет на месте.