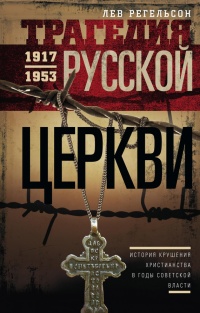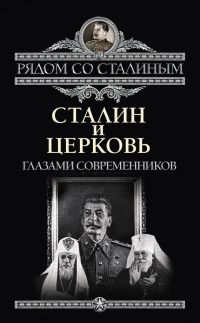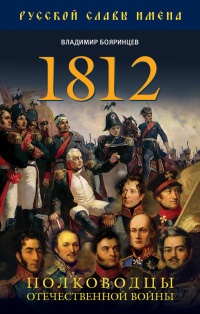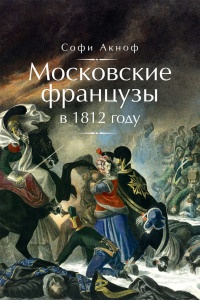Книга Век Наполеона. Реконструкция эпохи - Сергей Тепляков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Внешняя сторона быта кое-как налаживалась. Федор Мускатблит пишет: «нашелся спекулянт, который открыл для французов на Знаменке ресторацию с фокусниками, певицами, танцовщицами, бильярдом и рулеткой. Прислуга ресторатора бегала за провизией по всей Москве с длинными палками, которыми она подбивала разную домашнюю птицу, излавливала ее и затем с торжеством укладывала в мешки или корзины. Другие ловили в Пресненских прудах пескарей. Запасы скоро истощились, и ресторан закрылся…».
Брандт, приехавший в Москву с донесением 10 сентября, пишет о «шалаше-харчевне», устроенном в Кремле прямо возле площади, на которой Наполеон устраивал смотры гвардии. Хозяином заведения был француз. «Мне подали бифштекс с картофелем, бутылку очень хорошего красного вина и чашку отличного черного кофе и за все взяли восемь франков – завтрак, правду сказать, не совсем дешевый», – сетует Брандт.
С упорядочением жизни стало больше благолепия и в женском вопросе: вместо того, чтобы ловить первую попавшуюся женщину, солдаты и офицеры передавали друг другу адреса доступных дам. «Многие честные женщины, умирающие с голоду, принуждены были тоже служить развлечением для всех, – пишет Маренгоне. – Во всех уцелевших домах можно было встретить этих падших женщин; они располагались там как хозяйки, забирали себе все дамские украшения и заставляли приносить себе богатые одежды, награбленные солдатами, и слитки серебра за свои ласки, подчас очень грустные».
Остатки города представляли собой удивительный пейзаж: на месте выгоревших кварталов были разбиты военные лагеря. «Везде были разведены большие костры из мебели красного дерева, оконных рам и золоченых дверей, – писал Сегюр. – Вокруг этих костров, на тонкой подстилке из мокрой и грязной соломы, под защитой нескольких досок, солдаты и офицеры, выпачканные в грязи и почерневшие от дыма, сидели или лежали в креслах и на диванах, крытых шелком. У ног их валялись груды кашмировых тканей, драгоценных сибирских мехов, вытканных золотом персидских материй, а перед ними были серебряные блюда, на которых они должны были есть лепешки из черного теста, спеченные под пеплом, и наполовину изжаренное и еще кровавое лошадиное мясо».
Один из французов пишет: «сахару было так много, что солдаты клали его даже в суп, и главный штаб лакомился донским вином, выморозками и цымлянским, которое приняли сперва за шампанское». При этом в Москве оказалось очень мало муки, а говядины не было вовсе. Армия ходила в парче, но с пустым желудком.
Что же говорить о гражданском населении – тех несчастных, которые скрывались по подвалам и среди обгорелых руин? «Иные из нескольких бревен и листов железа устраивали себе хижины, скорее похожие на логова животных, чем на человеческие жилища», – пишет француз Делаво. В городе оказалось множество беспризорников, сирот разных национальностей. Их сдавали в Воспитательный дом. Так как многие не могли от потрясения назвать своих имен, то детям, доставленным от Наполеона, давали фамилию Наполеоновы, от французского коменданта графа де Миллие – Милиевы, а от французского генерал-губернатора герцога Тревизского – Тревизские (вполне вероятно, что нынешние Наполеоновы и Милиевы – потомки московских сирот).
Гвардия несла в Москве караульную службу и вместе с правом пребывания в городе за ней закрепилось преимущественное право грабежа. Пресытившись им, гвардейцы развернули торговлю награбленным. «Всюду солдаты сидели на тюках различных товаров, среди груд сахара и кофе и самых изысканных вин и ликеров, которые они желали бы променять на кусок хлеба», – горько усмехался Сегюр.
Пытаясь наладить подвоз продовольствия из деревень, французы распространили листовку, призывавшую крестьян и земледельцев привозить в город свои припасы, для скупки которых были назначены «базы» на улице Моховой и в Охотном ряду. Продавец при этом был волен, если цена его не устроила, увезти товар назад. Среда и воскресенье были определены «большими торговыми днями», и для защиты обозов накануне, по вторникам и субботам, войска должны были занимать посты на дороге. Патриотизм патриотизмом, но обозы и правда потянулись в Москву. Однако торговля быстро сошла на нет: с одной стороны, французы норовили не купить, а отобрать, а с другой – партизаны нападали на обозы и сурово карали соглашателей. Нескольких купцов будто бы даже закопали в землю живьем.
Разные историки пишут, будто Кутузов был уверен, что Москва поглотит армию Наполеона как губка. Это понимал не он один. По логике так и выходило: вдалеке от баз, с невероятно растянутой линией коммуникаций, на которых хозяйничали партизаны, в преддверии зимы – куда ни кинь, всюду клин.
Однако Кутузов и другие говорили себе, что ведь и Наполеон не может всего этого не понимать, наверняка понимает, а раз так, значит, уже придумал что-нибудь! Но что??? Это была загадка, которая не давала покоя всем противникам Наполеона.
27 августа, когда в Москве узнали об окончании битвы под Бородиным, между Ростопчиным и Карамзиным, который по знакомству жил в те дни в губернаторском доме, состоялся разговор, оставшийся в воспоминаниях Александра Булгакова, ростопчинского чиновника по особым поручениям. Карамзин предсказывал гибель Наполеона: «обязан будучи всеми успехами своими дерзостям, Наполеон от дерзости и погибнет!». Ростопчин, как пишет Булгаков, услышав имя Наполеона, дернулся, покраснел и сказал с досадой: «Вот увидите, что он вывернется!».
Наполеон внушал уже суеверный ужас. Граф Эммануил Ришелье, состоявший в русской службе еще со времен Екатерины Великой, а в 1812 году являвшийся градоначальником Одессы, размышлял в те дни: «Человек ли Наполеон или он существо потустороннее? Если он человек, то войдет в Москву и там погибнет – но что если он не человек?».
Ожидалось, что Наполеон бросится на Петербург – для этого ему и демоном не надо было быть, достаточно оставаться Наполеоном. 10 сентября, через три дня после извещения о вступлении неприятеля в Москву, в Петербурге было опубликовано «Известие об эвакуации Петербурга» – довольно бестолковый документ, в первой части которого говорится, что «здешнему городу не предстоит никакой опасности», а потом много разных слов о том, что ценности надо все же вывезти, дабы облегчить «жителям способы с лучшим порядком и без смятения выезжать отселе внутрь земли» – то есть бежать внутрь России. При такой бумаге для паники достаточно было появления в окрестностях Петербурга хотя бы эскадрона французов. Уже и памятник Петру Великому готовили к эвакуации, на что выделили несколько тысяч рублей – «слишком было бы грустно старику видеть, как через прорубленное им окно влезли в дом его недобрые люди» – писал современник. Медного всадника однако оставили на месте из мистических соображений: все тому же князю Голицыну, затеявшему в войну строить новый дом, некий майор Батурин рассказал свой сон – будто Медный всадник проскакал по городу, встретился с Александром Первым и сказал: «Пока я на месте, моему городу нечего опасаться!». Голицын уговорил императора отменить эвакуацию. (Интересно, что в 1941 году Медного всадника оставили на месте именно после того, как кто-то напомнил батуринский сон).
Однако идти на Петербург французам надо было без передышки, пока пепел Москвы еще не успел постучать в сердца деморализованных русских солдат – тогда шанс, что армия Кутузова, увидя идущего на Петербург неприятеля, разбежится, был велик.