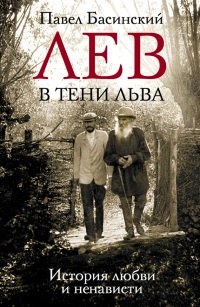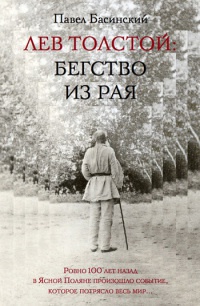Книга Книга о русских людях - Максим Горький
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.
У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим, спрашивает:
— Знаешь, что Z сказал про тебя? — или сообщит:
— А S говорит о тебе…
И темным взглядом, испытуя, заглядывает в глаза.
Однажды я сказал ему:
— Смотри, — так ты можешь перессорить всех товарищей!
— Ну что же? — ответил он. — Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были неискренни.
— Чего ты хочешь?
— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтоб каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, евангелие бабы — «Декамерон».
Но через полчаса он осмеял свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.
Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины как начала исключительно чувственного.
Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидал где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.
— Они целовались, и оба плакали, — говорил он, понизив голос и съеживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.
— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрупкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что целуясь — плачут, и мне было смешно. Борода дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощупал ее, грудей у нее не оказалось, значит целовать нечего и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседей, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей, и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц!
Он рассказал это превосходно, насытив слова своим милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.
Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительного золотые жилы красоты, — он комически хитро прищурился, говоря:
— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков…
Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.
На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал: «Начиная с курьерского «Бергамота», здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений».
Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свою обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.
— Я написал рассказ, который наверное не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?
Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.
— Это — пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.
— Вот — я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?
— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.
— Рассуждая так, нельзя быть революционером.
— Ты что же, смотришь на революционера глазами Нечаева: «революционер — не человек»?
Он обнял меня, засмеялся:
— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?
Он волновался, даже покраснел.
Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а только ломовой лошадью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько уменью работать, любви к труду.
— Странный ты человек, — тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнениях души своей. Он не имел общерусской неприятной склонности исповедоваться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.
— Понимаешь, — говорил он, — каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня, — с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.
Вскочил на ноги и полушутя заявил, встряхнув волосами:
— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.
И снова серьезно:
— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного, — а? Как ты думаешь?
Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.
— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу…
Он махнул рукой.
— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.
Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:
— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.