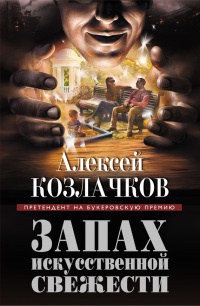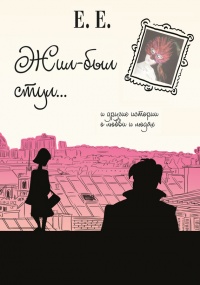Книга Стыд - Виктор Строгальщиков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
14
Предполагалось делать интервью со вдовами нефтяников. Лузгин придумал сей монументальный ход и рассказал о нем Пацаеву, не слишком веря, что у него получится: отказалась же напрочь беседовать с ним прилетевшая из Москвы на новогодние торжества вдова Виктора Вольфа. Но Боренька, что называется, проникся, лично звонил, обволакивающе убеждал и сообщил в итоге, что трое согласились. Нынче в десять большую группу вдов почетно принимает Слесаренко, будут подарки и деньги, общий снимок на память, чай с пирожными в «генеральской» столовой, затем наступит время Лузгина — ровно час, Пацаев обещал старушкам не слишком утомлять их разговорами.
В назначенный срок Лузгин появился в дверях столовой с диктофоном и блокнотом наготове. Старушки с устало сосредоточенными лицами уже бродили между столиков с большими фирменными пакетами в руках, а кое-кто, Лузгин увидел со смущением, заворачивал в салфетки недоеденные сласти. Пацаев указал ему глазами на трех женщин, державшихся слегка особняком у стенки с барельефом на буровой сюжет, и энергично двинул головой: дескать, давай, пока не передумали. Улыбаясь всем встречным-поперечным, Лузгин бочком протиснулся в нужном направлении и представился трем бабушкам у стенки, глянувшим на него с общей для всех и понятной Лузгину тревогой. Один столик в углу был нетронут — видимо, кто-то не явился, и Лузгин предложил разместиться за ним. Бабушки вертели головами, крашенными в синее, выбирая, куда бы пристроить пакеты, пока Лузгин не отобрал у них поклажу и не сгрузил охапкой на ближний подоконник.
Когда Пацаев дал ему фамилии, Лузгин вошел в электронный архив «Сибнефтепрома» и раскопал там все, что мог, по теме предстоящей встречи. Он уже знал, кто чья вдова и как кого зовут, что три семьи прибыли сюда в начале семидесятых из татарского города Бугульма. Коркины, Низовских и Сейфуллины всю жизнь дружили семьями и даже (Коркины с Низовских) поженили детей (был репортаж в местной газете), что первым умер буровик и депутат Низовских (еще в восьмидесятых, инфаркт на буровой, не довезли), потом от болезни скончался Сейфуллин (тоже не дотянув до пенсии), а Коркина похоронили год назад (уже за восемьдесят, все-таки прилично), на сайте были фотографии процессии и памятника в полный рост. Старушки (две) тоже долго служили в «Нефтепроме»: Сейфуллина ушла на пенсию главбухом, Низовских — замначальника по кадрам, и только Коркина везде упоминалась просто как жена, без должности. Лузгин спросил всеведающего Пацаева, и Боренька сказал, что Коркина была домохозяйкой: так повелел ей муж, имевший собственные представления о роли женщины в семье.
Из всех, ныне покойных, трех друзей Коркин был самым легендарным, притом не столько по причине трудовых достижений, сколько благодаря своему норову и нестандартным поступкам. Из поколения в поколение передавали, как однажды Коркин умышленно, под видом аварии, тормознул посреди болота артиллерийский тягач, в котором к нему на буровую ехали начальник главка и министр, и битый час кормил столичной кровью несметный местный гнус, после чего на все буровые площадки завезли вертолетами срочно закупленные в Канаде репелленты, накомарники и знаменитые сетки Павловского. Сейфуллин же был кабинетчик, технарь от бога, с тяжелым въедливым характером и склонностью дерзить начальству, особенно партийному, что и подпортило ему карьеру. А вот Низовских вечно улыбался, был всем доволен, никуда не лез, был постоянным всюду делегатом, депутатом, умел толкнуть речугу и мог бы очень далеко пойти по общественной, как раньше говорили, линии, не грохнись он с инфарктом на глинистые доски бурового настила в нелетную из-за дождей осеннюю погоду.
По правде говоря, Лузгин не знал подробно, о чем ему беседовать со вдовами. Первоначальный замысел, казавшийся таким щемяще лиричным и теплым — вспомнить молодость, дружбу, непростые замечательные годы, на время оживить ушедших и ушедшее, — теперь представлялся ему ненужным, жестоким допросом трех несчастных старух, угрюмо восседавших за столом, спрятав руки под скатертью, и перестреливающихся взглядами. И тогда Лузгин стал рассказывать сам: он бывал на буровой у Коркина, помнит Низовских по областной партконференции и слету молодых нефтяников, а у Сейфуллина брал интервью для программы «Время» о наклонном бурении, но сюжет зарубили как скучный и слишком заумный, народу это не понять и, стало быть, не нужно вовсе. Зато его отец с Сейфуллиным встречался часто и даже думал перейти к нему в контору бурения, но предложили место в главке, плюс ко всему семейные причины, вот он и не поехал.
— Я помню вашего отца, — сказала Сейфуллина. — Вы на него похожи.
— Ничего удивительного, — усмехнулся Лузгин. — Я теперь уже старше, чем папа.
— Он такой горластый был… Водки выпьет и давай украинские песни петь.
— А что, твой не пел-то? — спросила Коркина. — Тоже орал будь здоров. Как заведет «Черемшину»! И водочку пивал, пивал…
— Я что и говорю, — ответила Сейфуллина. — Сядут русский с татарином и украинские песни орут. Зато твой Коркин, как бутылочку примет, обязательно пел «Я люблю тебя, жизнь».
— А как они ругались! — вступила старушка Низовских. — Ваш отец — он по газу бурил, а наши все — по нефти. Как сойдутся — вечная ругань и спор: у кого бурить труднее. Ваш-то, хоть и один, наших троих перекрикивал. Да такие злые станут, кулаками машут, по столу стучат…
Лузгин сказал:
— Очень похоже. У нас и дома было то же самое.
— Сами-то, выходит, по папиной дорожке не пошли? — спросила Коркина, как спрашивают о болезни.
— Увы, — сказал Лузгин, — так получилось. Правда, отец и не настаивал. А вот теперь, когда вспоминаю то время, все больше думаю, что папа расстроился все-таки, но я был молодой и глупый и ничего не понял.
— И хорошо, — произнесла Сейфуллина, — и правильно. Собачья была работа у наших мужиков, и не машите на меня руками — собачья, говорю, собачья, твой Коркин тоже так считал. А твоего во сколько лет радикулит скрутил? И сорока-то не было, а уже на инвалидность отправляли…
— Но ведь платили, и неплохо, — осторожно заметил Лузгин. — И ордена давали.
— Ты, Зина, это зря, — сказала Коркина. — Если бы они свою работу не любили, не гордились бы…
— Ну, и до чего они догордились? Наши хоть, — Сейфуллина кивнула в сторону Низовских, — не дожили, а твой-то дожил, двадцать лет на пенсии сидел да смотрел, как другие все расхапывают да растаскивают. Много ему перепало-то, а, лауреату твоему? За Героя-то, — слава богу, совесть у людей проснулась, — доплачивать стали, а за Ленинскую премию-то шиш! Я уж про ордена не говорю… А после войны, я помню, за ордена платили, вот!
— Нельзя же все на деньги, Зин, — печально сказала Низовских. — И товарищ прав: получали хорошо, и премии всегда. Я помню, в семьдесят четвертом первый раз на юг поехали, бесплатные путевки в санаторий и еще тысяча рублей с собой. Так жили же чудесно, ни в чем себе не отказывали и еще четыреста обратно привезли.
— Так то же при советской власти! — Сейфуллина воздела руку, растопырив пальцы. Лузгин представил: ей бы кепочку сейчас и броневик… И еще он подумал: как в женах отражаются мужья, какой неизгладимый отпечаток мужнего характера столько лет хранят в себе эти разные женщины: жилистая строгая Сейфуллина, большая мягкая Низовских, маленькая крепенькая Коркина…