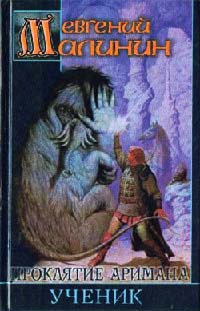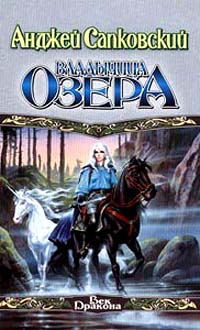Книга Выстрел в Опере - Лада Лузина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Я не хочу такой независимости, — нахохлилась Чуб. — Я хочу свою, бескровную!
Ухнули пушки.
— У меня правая половина тела… — сказала Маша. — С ней что-то случилось.
— Этого еще не хватало! — Морщинка а-ля Черчилль на Катином лбу проступила со всей очевидностью. — Больше не смей читать свою «Рать»! Ты могла умереть.
— Я без нее не могу. Ничего. А я хотела быть, как Даша… Храброй, как Даша. Свободной, как Даша. Хотела, как Даша…
— Не надо, — отрезала Катя. — Даша у нас уже есть. Нам нужна ты. Желательно живая. В идеале — здоровая.
— Я боюсь, — тихо сказала больная. — Если я не поправлюсь… Я жду ребенка.
— Чего???! — выпалила Землепотрясная. — У нас тут революция. А ты беременная?
— Как? От кого? — прореагировала Катерина.
Мир промолчал.
— Ты знал? — набросилась на него Даша Чуб. — Неужели от тебя? Так с привидениями можно?.. Нет, — перекинулась она на подругу. — Ты от этого, Врубеля. Я жопой чувствовала, там что-то не так. Ты с ним переспала! Почему ты мне не сказала?
— Все как-то не было времени, — промямлила Маша.
За занавеской послышался звон разбитого стекла.
— И ты в положении решила ввязаться в войну между красными, белыми и националистами? — поразилась Дображанская. — Лазила по каким-то горам. Разве так можно? Ты должна беречь себя!
— По горам лазила я, — резковато напомнила Даша. — Тоже мне положенье — семь дней! Нормальные люди на таком сроке его и определить толком не могут. Но как же тебе не повезло. Один раз в жизни трахнулась и залетела. Или повезло? — отступилась она. — Ты хочешь ребенка?
— Не знаю, — призналась Маша. — Я не знала, как дальше жить. Как сказать маме.
— Так ты из-за этого решила отменить революцию? — сделала вывод Чуб. — Чтоб маме не говорить? Удобно, конечно. Что ты можешь ей сказать, если ты у нее не родишься. И с Врубелем своим будешь здесь жить.
— Нет. — Мир, молчаливо сидевший в углу, ожег Дашу взглядом. — Не будет. Михаил Врубель умер в 1910 году. Вы останетесь жить в 1911. Маша разминется с ним на год. И навсегда. Отменив революцию, она больше не сможет увидеть его.
— Ну да, — кивнула Катя. — Мы перестанем быть Киевицами. И не сможем ходить по Прошлому.
Пауза.
— Я как-то сразу почувствовала, — нервозно заерзала Чуб, — что у меня правая половинка попы червивая. Маша, как всегда, самая лучшая. Пожертвовала единственной любовью. И даже не сказала. Из вежливости!
Дом вздрогнул. Люстра затанцевала.
В комнате погас свет.
Даша испуганно содрогнулась всем телом, но продолжила:
— И чтобы меня, бесчувственную сволочь, сделать сочувственной, стала калекой! А я, выходит, эгоистка и падла, раз не хочу никого спасать и хочу стать певицей, и хочу, чтобы женщины стали свободными…
— Свободными? — саркастично спросила Катя. — Стали! Там все твои освобожденные амазонки! — указала она на плотную штору. — Резвятся вовсю. У революции их было много…
— Елена Гребенюкова, дочь царского генерала. Замучила и убила в Одессе четыреста царских офицеров. Кровавая Маруся, атаманша, — индифферентно перечисляла Маша. — Организовала «Варфоломеевскую ночь» в Севастополе. За ночь там расстреляли, утопили, закололи штыками сотню безоружных. Мария Никифорова. Взрывала поезда, считая, что те, кто может позволить себе купить билет на поезд, уже буржуи и не имеют права на жизнь. Сейчас, чтобы помочь Муравьеву, устанавливает революционную власть в Запорожье. Потом двинется на Крым, на родину амазонок. Евгения Бош, глава советского правительства Украины. Вешала по приказу Ленина. Скоро будет здесь…
Катя заботливо поправила Маше край одеяла.
— Ты только не нервничай. Я пойду к соседке постучусь. Спрошу, нет ли у нее каких-нибудь капель. За врачом же не побежишь.
Подумав, Дображанская подошла к окну и аккуратно отодвинула край занавески.
Витрина магазина «Мадам Анжу» была разбита. Мимо прогремели два деловитых броневика. Небо над Городом было черным от дыма.
Дом напротив горел, как огромный четырехэтажный факел.
— Боже, там дом… — пролепетала Катя.
— Горит? — поняла Маша. — Это нормально. Дом Грушевского горел три дня. Дом писателя Григория Богрова, деда Мити Богрова, тоже сгорел. Из-за обстрела Киев горел десять дней. Снаряды попадали в верхние этажи. Броневики осыпали пулями нижние.
Чуб уже была у окна.
— Маш, там, на дороге лежат какие-то люди, — растерянно сказала она. Взгляд певицы остекленел. — Машка, они что, мертвые?
— Во время обстрела погибли десятки. Во время восстания арсенальцев — больше тысячи. Пока одни отряды подавляли восстание, другие отстреливались, отряд «Вольных Козаков» во главе с комендантом Киева начал еврейский погром. Били еврейские лавки, разгромили «Союз евреев-воинов», убили председателя Иону Гоголя… Всех убили. Они все погибли. Еще в 1918 году… — Маша закрыла глаза.
— Еще в 18-м?! — Даша эмоционально показала на окно сразу двумя указательными пальцами. — А ни-че, что он там! Он сейчас! — Ее затрясло. — Покойники лежат у меня под окнами… Их же только что убили, только что, пока мы тут сидели! Они — мертвые!
— Отойди от окна. — Катя категорично задернула штору. Черты ее стали бесстрастными, скрывая и одновременно выдавая какофонию чувств, поселившихся внутри. — Я к соседке. Если Маша не придет в норму, то следующими после Ионы Гоголя убьют нас. Когда красные войдут в Город?
— Скоро, — сказала историк. — Муравьев применит отравляющие газы. Запрещенные. И захватит мост через Днепр. Но Киевиц невозможно убить. И мы можем уйти. Я не могу щелкнуть… но дом сам выведет нас на улицу в 1911 год. Надо спешить. Взяв Киев, Муравьев на три дня отдал его солдатам. Они врывались в квартиры, грабили буржуев. Буржуем считался тот, кто жил в хорошо обставленной квартире.
— Мы никуда не пойдем, — резко объявил Красавицкий. — Ей больно даже шевелиться.
— Понятно, — сказала Катя. — Я скоро вернусь.
— А знаешь, чего я подумала, — нарочито бодро заговорила Землепотрясная Даша, проводив Катю взглядом. — Давай я буду тебе помогать, а потом решу, хочу ли я это делать. Оставлю себе одну ма-аленькую, ма-аленькую лазеечку…. ОК? — бодрость была нервозно-дрожащей.
За окном затрещали пулеметы.
— Потому что если я сейчас, вот сейчас открою занавеску… — Певица смотрела на кремовую штору, от которой ее отогнали.
Штора притягивала ее, как магнит.
— Я умру… — сказала Чуб. — Умру, а не не рожусь! Потому что побегу кого-то спасать. Потому что я лучше умру, чем буду смотреть, как у меня за окном… Я вообще не понимаю, почему мы тут сидим? — сорвалась она вдруг. — Мы — Киевицы. Мы должны воевать! Там наш Киев горит! Он же наш! И я не могу так… — Она заплакала. — Ну вот, моя очередь. Катя плакала, ты плакала, теперь я. Но мы ж можем!.. Ты умеешь воскрешать. Катя разрушать. Мы можем сейчас всех спасти. Евреев, украинцев, офицеров и арсенальцев тоже.