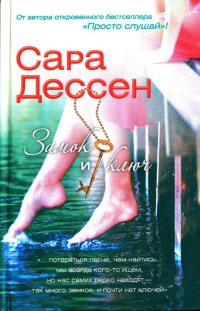Книга Фантастические повести (Замок Отранто. Влюбленный дьявол. Ватек) - Гораций Уолпол
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По возвращении с Мартиники Казот пробует свои силы в разных жанрах; он пишет басни в моралистически-назидательном духе, шуточную поэму «Новая Рамеида», посвященную его другу, племяннику известного композитора Рамо (впоследствии изображенному Дидро в его знаменитом диалоге), вместе с драматургом Седеном — либретто комической оперы «Сабо» (1768); данью начавшему входить в моду «жанру трубадур» явилась поэма на средневековый сюжет из эпохи крестовых походов «Оливье» (1763). Вышедший в 1767 г. роман «Импровизированный лорд» носит на себе явные следы влияния «Новой Элоизы» (хотя к воззрениям и личности Руссо Казот по-прежнему относился враждебно). Между 1778-1788 гг. написан роман «Ракель или Прекрасная иудейка», описывающий трагическую историю любви испанского короля Альфонса VIII к еврейской девушке (сюжет, в дальнейшем обработанный в драме Грильпарцера «Еврейка из Толедо» и в наши дни в романе Фейхтвангера «Испанская баллада»). Последнее произведение Казота «Продолжение 1001 ночи» (1788-1789) вновь возвращает нас к условной восточной экзотике традиционного жанра волшебной сказки. Впрочем, в наиболее значительной из этих сказок — «Истории Мограби» Казот использует подлинные арабские фольклорные источники, вкладывая в них излюбленную морально-философскую идею иллюминатов об извечной борьбе доброго и злого начал.
На фоне этой пестрой и довольно посредственной в художественном отношении продукции, отражающей колебания литературной моды во Франции между 1740 и 1780 гг., резко выделяется повесть «Влюбленный дьявол» — единственное произведение, вписавшее имя Казота в историю французской и мировой литературы. Идейные и художественные тенденции эпохи, получившие малоиндивидуальное отражение в других сочинениях Казота, предстают здесь в гораздо более выпуклой и самостоятельной форме, а сочетание их определяет своеобразный характер произведения, ставшего единственным в своем роде образцом французской предромантической повести.
Литературные веяния, наложившие отпечаток на это произведение Казота, знаменуют кризис просветительского рационализма. Первые симптомы этого кризиса обнаруживаются в середине века, когда в литературе и в быту начинает проступать новое осмысление фантастики. Наблюдается растущее увлечение (в особенности среди высшего общества) алхимией, магией и каббалой, поиски «философского камня», интерес к сочинениям натурфилософов XVI-XVII вв. — Парацельса, Якова Бёме и к современной теософии (в частности — к Сведенборгу).
Литературная продукция, отражающая эти модные увлечения, весьма обильна: одна лишь серия «Фантастические путешествия, сны, видения и каббалистические романы», выходившая в 1770-1780-х годах, насчитывает несколько десятков томов.
Эти тенденции получают и довольно широкое бытовое преломление, нередко вырождаясь в обыкновенное шарлатанство, спекуляцию на моде, которую используют в своих целях авантюристы вроде Калиостро и графа Сен-Жермена. Одновременно эти настроения отражают и более глубокую неудовлетворенность тем прямолинейным и механистическим объяснением мира, который давала современная рационалистическая философия. Усложнившиеся представления о природе, обогащенные достижениями естественных наук, уже не поддаются религиозной догматике. С другой стороны, и философский детерминизм мыслителей эпохи Просвещения оказывается несостоятельным перед лицом все возрастающих противоречий общественной действительности. Возникают первые, наивные и неумелые попытки понять мир в его динамике, раскрыть таинственные и сложные связи человека с окружающей его живой и неживой природой, разрешить загадку случайности и необходимости, сцепления причин и следствий в природе и истории. Старый картезианский принцип «разделения трудностей», рационалистического анализа сложных явлений сменяется поисками целостного объяснения мира и человека. Обострение социальных противоречий, предчувствие надвигающегося кризиса и крушения старого мира принимают иррациональные, мистифицированные формы. Не случайно именно в эту пору попытки социального переустройства нередко выливаются в форму тайных мистических обществ и сект.
Под знаком этих идей переосмысляются и традиционные религиозные представления о дьяволе и злых демонах. На смену религиозной абстракции добра и зла приходит загадочный и сложный, поэтизированный и фантастический мир сверхъестественных существ — сильфид, эльфов, «духов стихий», могущественных, но не всесильных, бессмертных, но открытых страстям и страданиям, а главное — не поддающихся однозначной нравственной оценке с точки зрения традиционных критериев добра и зла. Эти существа оказываются таинственным образом связанными с человеком: он может вступать с ними в общение и даже подчинять своей воле, хотя бы на время. Так, в своеобразной форме преломляется общепросветительская идея утверждения силы и значимости человеческой личности.
Представления об этих существах заимствуются частично из сочинений Парацельса и других, частично из народных поверий, облеченных в поэтическую форму баллад или сказаний, которыми начиная с 60-х годов XVIII в. все более пристально интересуются на севере Европы — в Англии, скандинавских странах, Германии.
Одновременно появляются первые проблески интереса к подсознательной сфере, делаются попытки понять и объяснить человека в его целостности, преодолеть метафизический дуализм души и тела, утверждаемый картезианской философией.
Искусство психологического анализа, поднятое на высоту большого художественного обобщения в трагедии классицизма, затем «приземленное», но доведенное до утонченного мастерства в галантном романе и повести французского рококо, было насквозь рационалистическим, оно вскрывало и описывало сознательную подоплеку человеческих поступков и поведения, но не могло, да и не пыталось вскрыть иррациональное, подсознательное. Во второй половине XVIII в. эта сфера подсознательного получает фантастическое истолкование: мир стихий, таинственных сверхъестественных существ не только окружает человека, влияя на его судьбу, — он присутствует в нем самом, в его душе, порою одерживая верх над голосом рассудка, становится символическим воплощением человеческих страстей, прежде всего, разумеется, самой «иррациональной» из них — любви, но иногда и более поверхностных, «бытовых» страстей.
Так, например, суеверный ореол возникает вокруг повального увлечения азартными играми, охватившего высшее общество всей Европы во второй половине XVIII в. В рассказах и мемуарах того времени оно нередко связывается с вещими снами, с появлением таинственных незнакомцев — посланников «иного мира», чародеев, ясновидцев, призраков, а порою и умалишенных, подсказывающих разорившемуся игроку «верные», беспроигрышные карты. Один из подобных анекдотов, фигурирующий в жизнеописании Калиостро, использован Пушкиным в «Пиковой даме».
Эти рассказы свидетельствуют не только о повышенном интересе к широко распространенному социально-бытовому явлению, принявшему накануне Французской революции угрожающие масштабы, но и о попытках философски осмыслить его, связав стихию случайности, воплощенную в карточной игре, со сферой сверхъестественного, иррационального. Тема азартной игры (в качестве таковой чаще всего выступает фараон, фигурирующий и в «Пиковой даме»), постепенно приобретающей таинственную, непостижимую власть над душой человека, его поступками и судьбой, осмысляется как воплощение слепых сил, враждебного рока, противостоящего разуму, сознательной свободной воле и нравственному началу.
Вместе с тем игра в этом мистическом истолковании обладает своими собственными внутренними законами, своей логикой, скрытой от непосвященных и выраженной в абстрактных числовых символах. Значение этих