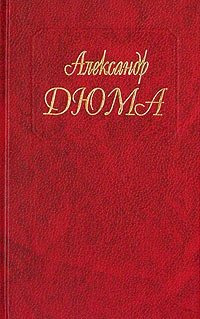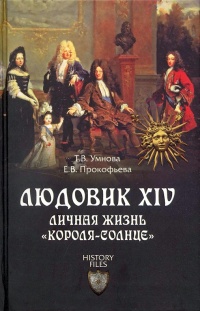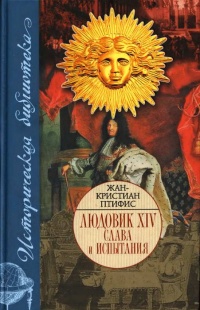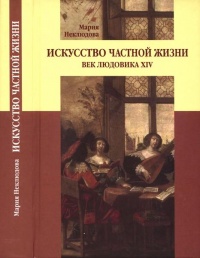Книга Людовик XIV, или Комедия жизни - Альберт-Эмиль Брахфогель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Франция и ее повелитель стояли теперь на высшей ступени могущества. Гений Кольбера быстро уничтожил все следы войны в отечестве. Промышленность и богатство Франции быстро восстановились и возрастали с поразительной скоростью. Французская торговля властвовала на всех европейских рынках так же, как ее политика — во всех кабинетах.
Все ненавидели, боялись Людовика XIV, но все удивлялись и подражали ему. Его абсолютизм стал программой всех государей, его придворный этикет, его образ жизни были приняты при всех дворах. Нравственно и физически он был повелителем Европы. Блеск его имени совсем затмил образы его великих предков — Франциска I и Генриха IV. Все, видевшие его двор, Версаль, были ослеплены их блеском. Конде и Тюренн, Кольбер и Лувуа, Корнель, Расин, Мольер, Буало и Лафонтен, Бурдалу и Боссюэ, Миньяр, Лебрен, Перро, Молли — все эти знаменитости, смешиваясь с толпой принцев, графов, герцогов и ослепительно прекрасных женщин, спешили в «Бычий глаз» на поклонение человеку, выше которого ничего не было для них на земле.
Ученики Лойолы молчали в немом изумлении. С дурно скрытой яростью, с отчаянием переносили они удар за ударом, наносимые Кольбером привилегиям их ордена. Народные школы были у них отняты, источники богатств почти уничтожены. Людовик, видимо, старался разрушить это духовное государство в государстве и поступал с ними так же, как делал некогда с дворянством Франции, которого теперь не существовало. Ему нужнее был умный, богатый, смелый и покорный народ, чем люди, коленопреклоненные перед монахами, видящие своего владыку в духовенстве, а короля ставящие на второй план.
То было золотое время романически-смелой Франции, Франции, боготворившей в своем короле самую себя и видевшей в остальных народах Европы варваров, годных только к увеличению ее собственной славы и блеска.
С заключением мира и наступлением зимы в Париже снова пробудилась жажда удовольствий, потребность артистических наслаждений. Принц Конде назначил в своем замке Шантильи целый ряд празднеств в честь Орлеанов и, между прочим, приказал Мольеру поставить на сцене своего замка «Тартюфа», находившегося под запретом. На принцессу Анну пьеса эта произвела сильное впечатление. При первой встрече с королем Анна так горячо превозносила достоинства этого произведения Мольера, что Людовик XIV, которому пять лет назад «Тартюф» был просто невыносим, теперь не только разрешил без всяких купюр поставить его на сцене Пале-Рояля, но даже порекомендовал Ламуаньону, архиепископу, не придираться к пьесе. Королевское разрешение подняло на ноги весь Париж и снова обратило всеобщее внимание на писателя, забытого во время войны.
После долговременного молчания «Тартюф» снова заговорил пятого февраля в присутствии короля и всей его свиты. Успех был поразительный. Пьеса выдержала сорок представлений и в марте появилась уже в продаже. Возобновившаяся слава Мольера сильно раздражила его врагов. Все пасквили и старые клеветы против него и его семейной жизни появились снова. Даже честный, добродушный Бурдалу — и тот стал проповедовать против писателя. При дворе не нападали на саму пьесу, так как ей протежировал король, но зато не упускали случая очернить ее автора, тем более что Людовик после первого представления не оказал Мольеру никакого видимого знака своего благоволения, а на все более или менее ясные доносы своих придворных отвечал молчанием. Самыми яростными обвинителями Мольера были: герцог Гиш, мадам Гранчини, граф Нуврон, Локкарт, Сен-Марсан — словом, все бывшие друзья Лорена и иезуитов, никогда ничего не забывавшие и ничего никому не прощавшие.
Приближалось двадцать пятое апреля, день святого Людовика, патрона фамилии Бурбонов. Он обыкновенно праздновался в Версале с чрезвычайной торжественностью, так как в Людовике святом Людовик XIV чтил самого себя. Версаль и весь Париж нетерпеливо ждали этого дня: первый мечтал об исполнении разных давно лелеянных надежд о получении наград и повышений. Париж же ждал своего короля, Великого Людовика, имевшего обыкновение в этот день показываться своему народу.
Наступил наконец давно ожидаемый праздник. Он начался утренним приемом в покоях его величества, во время которого король принимал поздравления своих придворных и называл лиц, удостоенных приглашения к столу. Обыкновенно же Людовик XIV обедал один. Королева Терезия рассчитывала сегодня на этот знак его благоволения, но ошиблась. Король назвал Орлеанов, Конде, Тюренна, ла Роша, Омона и Кольбера. После приема их величества спустились с большого крыльца и пешком отправились в церковь Святого Антуана, сопровождаемые массой народа. По окончании литургии Людовик XIV принял тут же в церкви поздравления дворянства, парламента и духовенства и вместе с ними отправился обратно по парку, к главному порталу. Как только он вступил в свои покои и раскланялся с королевой, народ хлынул к высокому порталу, нетерпеливо ожидая, когда откроют большие двери королевской залы, выходившие в сад, а высшее дворянство, прелаты, президенты парламента и суда, словом все, имевшие доступ ко двору, устремились через «Бычий глаз» к золотой решетке — смотреть, как кушает его величество Людовик XIV, поймать его взгляд, его слово, или, может быть, удостоиться невыразимой чести быть его гостем. Подобные приглашения были, впрочем, чрезвычайно редким отличием, граф Шамбертен, например, двадцать лет кряду изо дня в день появлялся у золотой решетки и только раз удостоился услышать от его величества десять слов.
Стрелки часов в Версале показывали без десяти два. Время королевского обеда приближалось. Громадная зала сияла в лучах весеннего солнца, у ее высоких стеклянных дверей стояли шесть лейб-мушкетеров, едва сдерживая напор толпы. Вдоль стен теснились пажи, камергеры, дежурные лакеи, обер-гофмейстер Мараметт держался около накрытого королевского стола, обер-гофмаршал де Брезе с жезлом в руках прислонился к золотой решетке, отделившей короля от дворянства.
Общее внимание и неудовольствие дворян привлекал теперь человек, стоявший почти впереди всех: это был Мольер. Его черный, совершенно гладкий костюм парижского буржуа резко выделялся между пестро расшитыми, разукрашенными кафтанами парижской знати. Дежурные камергеры давно уже делали различные замечания на его счет, и только уважение к месту удерживало дворян от проявлений неудовольствия против дерзости этого плебея.
Герцог Лианкур, стоявший рядом с Мольером, потерял наконец всякое терпение.
— Вы Мольер, если не ошибаюсь? — повернулся он к писателю.
— Он самый, к услугам вашей милости.
— Сделайте одолжение, объясните нам, как вы сюда попали?
— Совершенно так же, как и вы: через «Бычий глаз».
— Черт возьми! — вмешался кто-то. — Да как же вас впустили? Кто вас впустил?
— Ведь это оскорбление для дворян! Ваше место не здесь, а на крыльце, между чернью.
— Да, там вы и получили бы от Мараме королевские объедки! — раздался еще чей-то голос сзади Мольера.
— Вы слишком милостивы ко мне, шевалье Локкарт, но я не имею обычая утолять мой голод версальскими объедками. Позволю себе заметить графу Нуврону, что у меня есть особое разрешение быть здесь, хотя здесь мне и не место! — насмешливо отозвался Мольер.