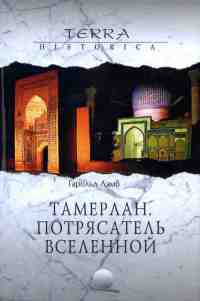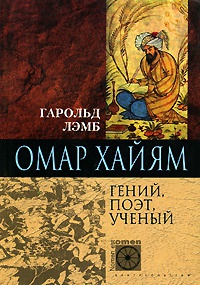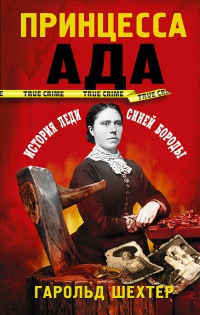Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1862 году, когда Дикинсон был тридцать один год, она начала переписку с добродушным, хоть и несколько озадаченным, Томасом Уэнтвортом Хиггинсоном, героем и войны, и мира, но по интеллекту все же не Эмерсоном. Хиггинсон был одним из тех немногочисленных читателей, к которым Дикинсон обращалась, но и в его случае, и в случае других ее устремления были весьма ограничены. Он явил очередное подтверждение тому, что оттенок, или цвет, которого она искала, был так далек, что показывать его на издательском базаре было бы нелепо. И все же первая строфа — не бахвальство; главный акцент делается не на базаре, а на границах ее искусства, на том, что она бы хотела поймать, или взять, но не может. Один за другим даются четыре тропа (или цвета), призванные дать некое представление об оттенке, которого не взять: картина неба, досада как следствие переживания душой владычества, определенный свет, или «нетерпеливый взгляд», на пейзаж, различие между временами года, лето и зима. Все четыре вытекают из представления об Оттенке, но еще более тонко связываются, или объединяются, нарастающей настоятельностью изображения, необходимостью изобразить негативность того, чего не взять, — притом что Дикинсон всячески намекает на осознание некоего присутствия.
Эта четверка Возвышенных негаций начинается с роскошного шествия общества придворных Клеопатры, повторенного на китсовский изысканный лад[391] в «неосязаемом Строю», видимом на небе. «Неосязаемый» — не слишком дикинсоновское слово; в 1775 ее стихотворениях и фрагментах оно используется лишь еще один раз, когда она замечает, что «рана кажется неосязаемой / Пока не тронет Нас» (стихотворение 799). Возможно, то, чего ей не взять, еще ее не коснулось, и поэтому оттенок, или строй, кажется иллюзорным, даже когда виден на самом деле. Это согласуется со следующей строфой, в которой «Моменты Владычества /…происходят на душе» (курсив мой), а не в ней и не ее усилиями.
Когда осуществляется переход к пейзажу, мы оказываемся еще дальше в сфере неосязаемого:
Осязаемо тут очарование — во всех смыслах этого слова. Слово «вытеснили» звучит в стихотворениях Дикинсон один-единственный раз, и в наш постфрейдовский век нам следует помнить о прежнем значении этого слова, связанном с вольным, а не невольным сокрытием или забвением. Нетерпеливые Пейзажи, очеловеченные до необычной для Дикинсон степени, едва удерживают в себе свой секрет, предположительно проявляющийся в некоем наклоне лучей. Этот секрет отчасти проясняется в следующей строфе — предпоследнем откровении этого стихотворения:
Снег — это покров, или завеса, из тюля, белый накрахмаленный шелк; но какую тайну он укутывает, или скрывает, какой секрет? О чем молит лето — только для того, чтобы зима показала: даже мольба, произносимая временем года, — лишь очередной обман? Мольбы, обманы, укутывание — все это уклонения, которые совершает очеловеченная и обретшая точку зрения природа, подозревающая, что белки знают секрет, проникли в тайну. При этом сами белки — наиболее таинственная деталь этого стихотворения. Как нам читать пугающую строчку, в которой о них говорится: «Их Нехваткие повадки — насмехаются над нами»?
В великом, до сих пор не датированном стихотворении 1733, возможно, содержится подсказка:
Ужас — это Иегова (а то и сам возлюбленный Высший Судия), а его ужасный, страшный дом — это, предположительно, вечность, в которую не войти, не отказавшись от силы жизни ради смерти. Хватка, вцепившаяся в понимание, — это осознанная защита от принципа реальности, или того, что Фрейд назвал примирением с неизбежностью ухода. Повадки белок названы нехваткими и сказано, что они насмехаются над нами: это может означать, что в их понимание проверки реальности, в отличие от нашего, никто хваткой не вцепился. Они продолжают насмехаться над нами:
Глаз каждого из нас был обманут, поскольку наше понимание взято хваткой; глаз надменно закрывается с ложной надеждой на то, что он откроется вновь — где бы то ни было. Что такое «другой способ — видеть» — в контексте Могилы? Если последняя строчка не выражает чистую, жестокую иронию (а я так не думаю), то мы возвращаемся к перспективизму, которому Дикинсон научилась у Эмерсона и который затем вывела «за пределы» изученного, в свою собственную негативную поэтику. Ее новый перспективизм — потому другой способ видеть, что он видит то, чего увидеть нельзя, силы, загоняющие пейзажи и времена года в человеческие смыслы. Ее глаз не обманут, поскольку она отказалась от грабежа и присвоения. То, чего ей не взять, — действительно лучшее, и следующая отсюда восприимчивость ее воли вознаграждает ее уникальной способностью отнимать имена.
Воля к власти у Эмерсона и Ницше тоже восприимчива, но ее реакция — интерпретация, поэтому у них каждое слово становится интерпретацией либо человека, либо природы. Способ Дикинсон — как видеть, так и волить — предпочитает вопрошание интерпретации и предполагает своего рода отчуждение и человеческих установок, и природных процессов. С ее самобытностью не сравнится даже сила ее поэтических потомков: Уоллеса Стивенса, Харта Крейна, Элизабет Бишоп. Ее каноничность — результат ее состоявшейся странности, ее диковинного отношения к традиции. В еще большей степени она происходит из ее когнитивной силы и риторической ловкости, — а не из ее половой принадлежности или какой бы то ни было гендерной идеологии. Ее уникальный порыв, ее Возвышенное основаны на умении лишить имен все то, в чем мы абсолютно уверены, и превратить это в пустоты; так ей и подлинным ее читателям дается другой способ видеть — почти что видеть в темноте.