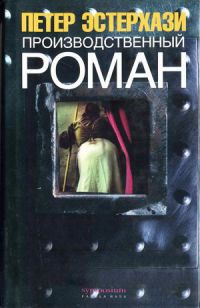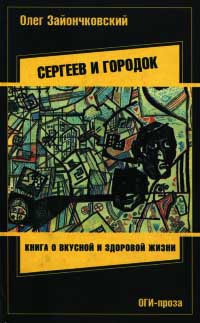Книга Harmonia caelestis - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Нет, конечно, хотя надо заметить, что в обоих случаях мы имеем дело с общественными институтами, созданными, управляемыми, причем управляемыми в своих интересах, людьми. — Он с трудом перевел дыхание и выложил последний козырь: — А что касается некоторых злоупотреблений, то нельзя же списывать их на эти учреждения как таковые.
Как же часто мы слышали это во время последующих исторических катаклизмов; когда мы спрашивали у так называемых здравомыслящих социалистов, как же так, неужели все эти ужасы неотъемлемы от их гениальных планов по осчастливливанию человечества, то чаще всего слышали в ответ как раз это: злоупотребления отдельных личностей нельзя списывать на теорию в целом.
— Удивительно, как успокаивают всех вас разные лозунги и бонмо!
— А что, граф, разве десять заповедей — не коллекция подобных бонмо? Не убий! Остроумно, не так ли?! Две тысячи лет христианства! Две тысячи лет войны! Не убий! Неужели вы не находите это смешным? И мы еще не коснулись остальных девяти!
— Нет, нет! Вы и ваши товарищи подменяете мысль остроумием, а вместо истины у вас machbarkeit — то, что может быть сделано, то и истина. Ну а то, что может быть сделано, то в порядке вещей. И на место любви, таким образом, заступают поиски радости. То, что есть, существует, то вы и принимаете. Но Иисус говорил не так, Штерк!
— Иисус, ваше сиятельство, нам не помощник. Он и себе-то не смог помочь. Иисус играет на вашем поле. И никак не на нашем.
— Как у вас язык поворачивается!
— Извините. — Он улыбнулся еле заметно, и я, не знаю уж почему, тоже слегка улыбнулся.
Больше мы с ним не разговаривали. Говорить больше было не о чем. Да, беседа была похожа скорее на жадное поглощение пищи, нежели на изысканный ужин. И теперь мы насытились, так и не обретя удовлетворения. Мы испытывали сомнения, неуверенность и поэтому погрузились в молчание.
И тут, точно по команде, мы повернулись к большому, выходящему в парк окну. За окном буйствовала весна, густые кроны деревьев в надвигающейся темноте сливались в сплошной шатер, сад мягко обволакивали коричневато-серые сумерки, сквозь которые проступали мерцающие пятна зелени и розовато-сиреневая полоска заката.
— И в доме вечерняя звезда, и за окнами, — посмеиваясь сказал Штерк, намекая на то, что фамилия наша, по легенде, происходит от названия Венеры-Истар.
— Урожденная Моргенштерн, — в свою очередь усмехнулся я, имея в виду, что планету, видимую на закате на западном склоне неба, а на рассвете — в восточной части, люди когда-то принимали за два светила, утреннюю звезду и вечернюю.
Дом постепенно погружался во мрак. Мы долго молчали, стоя у окна, пока кто-то не спросил нас, как будто мы были детьми, чем это мы занимаемся в оконной нише».
48
В легенде, восходящей к тринадцатому столетию, говорится о неком Миклоше из рода царя Соломона, от которого, по свидетельству грамот — то есть документов! — восходящая линия идет уже непрерывно, правда, о нем самом грамоты нам ничего не скажут, ибо речь в них о нем не идет. Они упоминают лишь его сына Ласло как его сына, filius Nicolai de cognatione Salamon[94]. Отец, существующий исключительно благодаря сыну! Согласно легенде, фея Чаллокёза (?) в определенные вечера посещала сад этого моего предка, дабы искупаться в установленной там бадье. С появлением вечерней звезды она снимала одежды, в обязанности же моего предка входило дать фее знать, когда можно начинать, мол, взошла вечерняя звездочка, вон она.
Когда старик умер, фея прислала певца, имя ему было Иштван, и певец под лютню спел ту песню, которая затем долгие годы считалась чем-то вроде тайного гимна семьи; поразительной силы мольба, мольба, как ни странно, о безымянности, о страстном желании освободиться от имени, в то время как это имя, казалось бы, означало: всё. Рассказывают, будто исполнял эту песню смерти хор домовых.
Имя сладкое — Иштар
чур меня чур меня
голой плоти моей
беги беги
Прешло у неба имя
прешло у мира имя
так голой моей плоти
к чему оно
Все имена отныне
отпущены на волю
и ты мое сладчайшее
и ты мое мудрейшее
к своей прибейся стае
скорей скорей
49
Тетя Мия, которая после несчастного случая — так это называли в семье, о беде больше не говорили — стала передавать вести между замком и Будапештом, познакомилась в поезде не с одним даже, а с целыми двумя красногвардейцами.
Так в доме появились двое «придворных» (прикормленных, собственных) бойца Красной гвардии.
Один из них был сыном старого слуги моего прадеда, стал металлистом и, понятно, связался с социалистами, но не забыл и о давних, «á la longue», отношениях наших семей и поэтому предложил тете Мие свои услуги. Невинные души двоих молодых людей были буквально напичканы идеями нового времени, и они, не жалея красок, рисовали контессе ее прекрасное будущее, не забывая упомянуть и ее отца, его будущую беззаботную и прекрасную жизнь, забывая при этом, что отец девушки жил и до этого, можно сказать, беззаботно, в полном достатке, — говорили, что государство пожизненно будет платить ему ренту, заботиться о нем и даже доверит ему управление бывшим хозяйством.
Мой прадед все эти новации зафиксировал, пометив каждую литерой «н!»: несерьезно. Несерьезные и наивные представления: н!
Позднее, в немалочисленные серьезные моменты жизни, эти литеры не раз выручали нас, спасая семью — ибо о серьезности момента зачастую свидетельствует как раз несерьезность нововведений, — так что нам оставалось только пометить их буквой «н»: н!
С тех пор как вспыхнула революция, телефоном имели возможность пользоваться только официальные лица, и все же на этот раз телефон зазвонил.
— Красная гвардия говорит!
Мой прадед, будто коснувшись змеи, едва не бросил трубку.
— Эстерхази слушает! — парировал он. «Кто у аппарата?» — «Это я спрашиваю, кто у аппарата!» И т. д., будто в картах. Контра. Реконтра. Субконтра. Ва-банк!
«Домашний» красногвардеец сообщил прадеду, что вечерним поездом на станцию прибывают родственники и просят прислать экипаж. Несколько часов спустя караван прибыл к замку, и «маленький пролетарий Матяш», залог стольких радостей и надежд, после ряда согласований с важными товарищами смог совершить свой въезд в то место, что отныне уже не именовалось наследным владением его отца.
Гейне пишет, что колыбель его качалась на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Раскачивалась и колыбель моего отца, да еще как! Ведь как раз в это время рушилась тысячелетняя Венгрия.
50
Незамедлительно был созван семейный совет, не из-за тысячелетней Венгрии, а потому что нужно было бежать, ибо существовала опасность, что моего еще только начавшего гукать маленького отца возьмут в заложники.