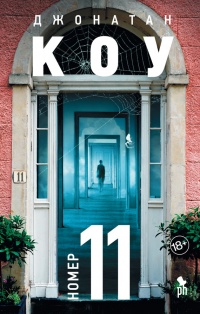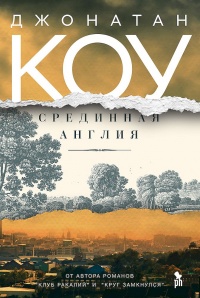Книга Какое надувательство! - Джонатан Коу
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— У меня теория лучше. На самом деле — та же самая, что и у большинства людей. От него избавились советские власти, потому что он слишком насмотрелся на Запад, ему там понравилось, и он, возможно, собирался сбежать.
Фиона улыбнулась — нежно, но вызывающе.
— Думаешь, все можно свести к политике, да, Майкл? Тебе это сильно упрощает жизнь.
— Ничего простого я в этом не вижу.
— Нет, политика, конечно, может быть сложна, я это понимаю. Но мне всегда кажется, что тут кроется нечто предательское. Постоянно соблазняет нас поверить, что всему найдется то или иное объяснение — нужно лишь достаточно пристально вглядеться в факты. Ведь именно это тебя интересует, правда? Все объяснять?
— А какова альтернатива?
— Дело не в этом. Я просто говорю, что в расчет следует брать и другие возможности. Даже те, что покрупнее.
— Например?
— Например… ну, предположим, он действительно погиб случайно. Предположим, его убило стечение обстоятельств — не больше и не меньше. Разве это не страшнее твоей маленькой теории заговора? Или, предположим, это было самоубийство. В конце концов, он видел то, чего не видел ни один человек, — невозможно прекрасные вещи, если верить его же словам. Может, ему так и не удалось возвратиться к реальности и тот полет стал кульминацией чего-то иррационального, какого-то безумия, сжигавшего его изнутри — там, куда не дотянутся ни ты, ни твоя политика. Мне кажется, тебе такое бы тоже не понравилось.
— Ну, если ты хочешь об этом посентиментальничать…
Фиона пожала плечами.
— Может, конечно, я и сентиментальна. Но понимаешь, слишком цепляться за догму тоже опасно. Видеть все только черно-белым.
Я не нашелся что ответить и сосредоточился на том, чтобы нанизать три волглые горошины на зубец вилки. Следующий вопрос Фионы застал меня врасплох:
— Когда ты мне расскажешь, почему ты поссорился со своей мамой в том китайском ресторане?
Я поднял голову:
— Довольно резкая смена темы.
— Это вообще не смена темы.
— Я не очень-то тебя понимаю, — пробормотал я, снова опуская взгляд на тарелку.
— Ты уже несколько месяцев обещаешь мне рассказать. Ты даже хочешь мне рассказать — это видно. — Поскольку никакой реакции от меня не последовало, она продолжала размышлять вслух: — Что она могла сказать, чтобы так сильно тебя обидеть? Так сильно, чтобы тебя раскололо надвое? Одна половина отказывается ее прощать, поскольку хочет видеть все черно-белым, а другая… Другую ты с тех пор пытаешься в себе придушить.
Я ничего не ответил. Только гонял по тарелке ломтик индюшатины, макая его в густую маслянистую подливку.
— Ты вообще знаешь, где она сегодня? Чем занимается?
— Дома сидит, наверное.
— Одна?
— Вероятно. — Наконец я сдался. — Послушай, назад возврата быть не может. Вместе нас все равно удерживал только отец. А как только он умер… все кончилось.
— Но вы же все равно с ней встречались после его смерти. Все произошло ведь не поэтому.
Мне не хотелось ей ничего рассказывать — вот что самое странное. И я отчаянно хотел ей все рассказать. Но признание следовало из меня вырвать — клочок за клочком, и процесс этот только начинался. Я не намеревался ему препятствовать, не хотел выглядеть нарочито загадочным. Просто так получалось само собой.
Я сказал:
— Люди могут умирать и не один раз.
Фиона внимательно посмотрела на меня. И сказала:
— Давай-ка пропустим пудинг и пойдем отсюда?
* * *
Это была ссора — в каком-то смысле, хотя никто из нас не мог с уверенностью сказать, с чего она началась. Мы ушли из паба молча и по пути к машине обменялись лишь несколькими словами. Мне не хотелось упускать последние полчаса дневного света, и по пути домой я предложил быстро прогуляться по Южным холмам. Мы с Фионой шли рука об руку, безмолвно похоронив наши разногласия, какими бы они ни были, и местность вокруг в солнечный день была бы красивой, но теперь, когда подкрадывались холодные сумерки, выглядела нагой и неприступной. Фиона, судя по всему, очень устала.
В действительности меня поразило, как она умудрилась продержаться настолько долго, поэтому, когда мы поехали дальше, я вовсе не удивился, что она задремала. Я поглядывал на покойное лицо Фионы — оно напоминало мне о той близости, даже о той чести, что я испытал, когда прокрался в комнату Джоан и несколько минут смотрел на нее спящую. Однако теперь ощущение было обманчивым: глядя на Фиону, я не чувствовал, что заглядываю в прошлое, совсем наоборот. Ибо с каждым взглядом украдкой (я все-таки старался смотреть и на дорогу) казалось, будто мне даровано мельком увидеть нечто новое и немыслимое — то, в чем я много лет без нужды себе отказывал: будущее.
Мы остановились лишь раз — на заправке, где я купил себе „Смартиз“ и батончик „Йорки“. Когда я вернулся к машине, Фиона крепко спала.
* * *
И все же каких-то шесть дней спустя…
Неужели это правда?
И все же каких-то шесть дней спустя
* * *
Наверное, я не смогу об этом.
На следующий день после Дня подарков пришла рождественская посылка с книгами из „Павлин-пресс“. Внутри лежала записка от миссис Тонкс — она извинялась, что не отправила книги раньше. Я не смог заставить себя ни посмотреть их, ни даже развернуть. Днем я отправился на квартиру Финдлея взглянуть на украденные бумаги. Ничего нового из них я не узнал. Письмо Табиты — очевидное свидетельство того, что она действительно некогда написала издателям с просьбой обеспечить ей мои услуги, хотя я ни сном ни духом не ведал о ее существовании, — не заинтриговало, не озадачило и даже не встревожило меня. Промелькнул легкий интерес, и только. Семейство Уиншоу со всей своей беспощадной, фантастической, жадной до власти жизнью никогда не казалось от меня дальше, чем сейчас. Что же до конверта, в котором якобы лежала разоблачительная фотография Элис, то я даже не стал его открывать.
Фиона теперь стала для меня всем на свете.
На следующий день ей назначили повторный визит в клинику, и на сей раз я намеревался ее сопровождать. Ей почему-то стало заметно хуже, чем тогда на берегу. А мне казалось, что поездка пойдет ей на пользу. Но кашель вернулся, резче прежнего, и она жаловалась, что ей не хватает воздуха: когда мы вечером поднимались к ней в квартиру, пришлось останавливаться на трех площадках из четырех.
Назначено было на половину двенадцатого. Мы целую вечность прождали автобуса и опоздали в больницу на несколько минут. То было викторианское уродство из черного кирпича — я бы решил, что оно больше подходит для наказания рецидивистов, нежели для излечения хворых. Все равно никакой разницы: Фиону вызвали в кабинет далеко после двенадцати. Я остался ждать в приемной, стараясь не терять остатков оптимизма в этом непреклонно унылом интерьере: тошнотворный бледно-желтый декор, сломанная кофеварка, уже ограбившая нас на шестьдесят пенсов, придурковатая система отопления (одна гигантская чугунная батарея жарила во всю мочь, остальные не были подключены вообще; время от времени трубы на стене клокотали, фыркали и заметно сотрясались, кроша штукатурку). Вытерпеть все это я смог лишь минут пять и уже совсем было собрался выйти прогуляться, когда вернулась Фиона — раскрасневшаяся и возбужденная.