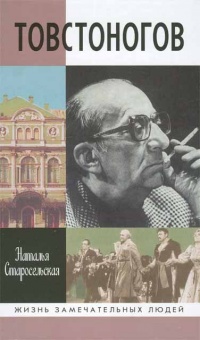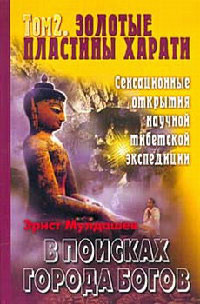Книга На Фонтанке водку пил - Владимир Рецептер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А-а-а! — понимающе отозвался тот…
Из Китая писем Анне Андреевне Горенки не слали, а послевоенной травли понять не могли.
Потом Виктор Андреевич уехал на жительство в Америку, а Ханна Вульфовна — в Ригу. Стоик и терпеливица, она любила повторять материнское наставление: «Старому и бедному поклонись первой и никому не завидуй». Когда же речь заходила о надвигающихся болезнях, меняла тему: «Не хочу встречать горе на полдороге…»
— А Виктор верит в Бога? — спросила ее о брате Анна Андреевна.
— Нет, — ответила Ханна Вульфовна.
— Ну и дурак, — огорчилась Ахматова.
Ханна сохранила с бывшим мужем добрые отношения и передала в Нью-Йорк данные о размере, а брат выбрал и прислал знаменитое японское кимоно, которое видели на Анне Андреевне многие, в том числе и Р.
В Токио перед широкой публикой Ахматова появилась 15 мая 1927 года. Автор просит ахматоведов не вздрагивать, он знает, что говорит. Выставку советского искусства в газете «Асахи» (той самой, в редакции которой в 1983-м выступали с концертом артисты БДТ, в том числе и Р.) отбирал, организовывал и вывозил в Японию муж Анны Андреевны Николай Николаевич Пунин. Он и включил в экспозицию ее портрет.
«…Ящики вскрыли, и в этой чужой стране твое лицо на картине Петрова-Водкина посмотрело на меня, незнакомое и равнодушное… Вчера нас пригласили на обед с гейшами… Большая комната, покрытая туго плетенными мягкими циновками; стены раздвижные, прямые углы у потолка, никакой мебели, несколько горшков с низкорослыми хвоями; посередине лакированный стол; сидели на шелковых подушках, облокотившись на бархатные скамеечки; пили саке (вроде водки, знаешь?), гейши — девочки лет четырнадцати в очень пестрых платьях — наливали саке в чашечки и пытались занимать разговором… Затем они танцевали милые танцы с песнями, описать которые невозможно. После обеда старшая надзирательница кормила их с палочек земляникой. Взрослые гейши, которые тоже были на обеде, держат себя как мудрые подруги мужчин. Они ласковы, но сдержанны, исполнены по отношению к мужчинам какой-то особой спокойной иронии, как какие-то старшие сестры. Мне не странно, что одна из них по манере себя держать напоминала мне тебя, когда ты бываешь в мужском обществе!..»
Со знакомого нам острова Хондо Николай Николаевич и привез для Анны Андреевны первое кимоно, черное, с серебряным драконом на спине, к которому она привязалась настолько, что с течением лет сносила его дотла.
В 1928 году в Россию приехали господа Кендзо Мидзутани и Macao Енекава и были представлены Ахматовой в Фонтанном доме. Енекава произвел на нее особое впечатление тем, что переводил на японский Толстого и успел перевести всего Достоевского. В следующий раз господин Енекава приехал в Ленинград вместе с сыном уже в 1962-м и, нанеся визит на улицу Ленина, был потрясен рассказом Анны Андреевны и Ирины Николаевны о трагической судьбе и гибели в ГУЛАГе Николая Николаевича. Внучка Пунина Аня Каминская вела в это время экскурсию в Александро-Невской лавре, и Енекава с сыном сочли необходимым приехать туда и познакомиться с ней…
— Вот какой у тебя дед, — сказала Ане Анна Андреевна как о живом…
Близкие называли Ахматову Акума. Это тоже след японских влияний. Акума — существо женского рода, связанное с нечистой силой, обладающее, кажется, особыми свойствами защиты, прозрения и мести. Р. казалось, что Акума недалеко ушла от эллинских эриний, грузинских али и наших русалок. Русалкой представлял молодую Ахматову Николай Гумилев…
В первый раз в шутку Акумой назвал Анну Андреевну В. Шилейко. Это случилось, когда к нему в гости в Мраморный дворец Ахматова пришла вместе с Н.Н. Пуниным и его маленькой дочкой. Ребенку понравилось странное имя, и по возвращении домой Ира стала его повторять. Так и пошло. И Ахматова этому не противилась. А от Ирины Николаевны привычка передалась ее дочери Анне. «Милой Ане, Акумцу, от старшей Акумы», — надписывала Анна Андреевна свою фотографию. Она считала, что это японское прозвище таинственным образом ограждает ее от лагеря и тюрьмы…
В библиотечке Ахматовой была книжка переводов из японской поэзии, небольшая по формату, но пухлая, в красном переплетце, такая же ГИХЛовская, 54 года, как та, которую Р. привез из Ташкента и всегда держал на виду. Анна Андреевна отдавала предпочтение переводам Веры Марковой из поэтов позднего Средневековья и читала вслух Л.К. Чуковской:
— Теперь вы, — и передавала книжку.
Кимоно, которое прислал брат, было опять черное, с красным подбоем, матовый рисунок почти не читался, а со спины, под самой шеей, брал на себя внимание красный кружок, может быть, знак заходящего солнца…
— А кимоно живо? — спросил Р. у Анны Каминской.
— Боюсь, что да, — загадочно ответила она.
— Где оно, если не секрет?..
— Где-то прячется…
— Взгляните на него, Анна, пожалуйста, взгляните!..
Праздным туристом влекся Р. по древнему Киото, бывшей столице Японии Хэйанке, «городу мира и покоя», но покоя и мира не было у него на душе. Сама культурная эпоха, с которой сводили его опытные экскурсоводы, называлась эпохой Хэйан, и всякое высказывание, тем более стиховое — а от него требовалось стиховое высказывание во славу юбиляра, — невольно корреспондировалось с традиционной японской перепиской, полной умолчаний, зашифрованных смыслов и других поэтических фигур. Образцовые кавалеры и дамы обступали его, образцовые дружбы оживали в исторических примерах, образцовая верность касалась приезжей души…
Поясница болела все больше, и Р. совершал все большие глупости. В Нагойе залез в ванну и еле из нее выполз. Ему грозила полная обездвиженность, а в условиях японских гастролей это было уже не идиопатическим отклонением от нормы, а полным идиотизмом. Умные артисты, почувствовав недомогание, спешили обратиться к нашему начальству, те — к фирме г. Окава, и, в соответствии с договором, больных водили к японским врачам. А Р., в соответствии с советской литературой, свою инвалидность старался победить силой духа и вьетнамской мазью «Звездочка»…