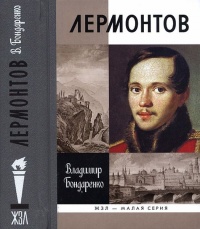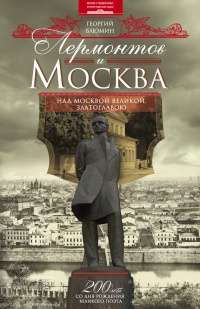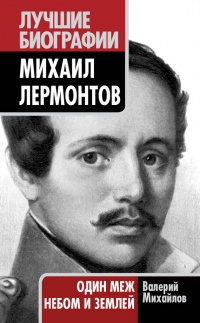Книга Лермонтов - Алла Марченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Если принять эту версию, становится ясным и иронический подтекст следующей фразы: «Покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз» (святой Георгий). Святой Георгий, покровитель Грузии, по русской традиции считался защитником воинства; Георгиевским крестом награждали за особую – отменную – храбрость; полный георгиевский кавалер освобождался от телесных наказаний, принятых в русской армии для нижних чинов.
Издевка была язвительной, ведь офицерам, развлекавшим себя за красиво и ярко накрытым столом, слишком хорошо были известны причины сказочной скорости: на молниеносность истрачено 143 438 рублей и еще 59 копеек (Николай любил пунктуальность), лошадей же загнано – 170. Выходило, что крылатый конь Высокого Всадника мчался в сто семьдесят лошадиных сил – скорость по тем временам невероятная.
Возвращаться из «страны чудес» в «Турцию» не хотелось…
«Я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку».
Но воля его кончилась. Отдаленное родство Елизаветы Алексеевны с шефом жандармов и старания ее неусыпные «о всемилостивейшем прощении внука» сделали свое дело. Решающий разговор «на его щет» произошел 21 октября 1837 года в столице донского казачества Новочеркасске. Государь был в приятном расположении духа после очередного военного спектакля, и Бенкендорф, тонко чувствующий момент, замолвил словечко за «юного и неопытного автора». Сыграла свою роль и безупречная выправка нижегородцев. Лермонтова, правда, на смотре не было: без вещей и без денег он сидел в Ставрополе, ожидая прогонных. Но государю об этом, естественно, не доложили. (Милости после удачно разыгранных парадировок были не капризом, а традицией: в случае если Николай оставался доволен смотром, даже нижним чинам выдавалось: «по два рубля, по два фунта рыбы и по две чарки вина».)
Итак, прощен! Полк, правда, хоть и гвардейским считается, да стоит не в столице, а «между Питербурга и Нова города в бывшем поселеньи», и сортом похуже. Но бабушка – куда ей в Новгород – «я там никого не знаю и от полка слишком пятьдесят верст» – уверена: добьется перевода в Царское, раз уж фортуна расположение проявляет.
По свидетельству Симановского, 14 декабря 1837 года Лермонтов был уже на «перевалочной» станции Прохладная, а вот в Москве появился лишь 3 января. Что же задержало Михаила Юрьевича в пути? Неужели даже Новый год, праздник для него священный, встретил в каком-то придорожном трактире с грязными, затерханными нумерами? Вряд ли… По-видимому, мимоездом по обыкновению завернул к кому-то из старых или новых полковых друзей. А может, и в Кропотово заехал, поскольку не был на могиле отца целых шесть лет. Не думаю, чтобы именно там, со скучными тетушками, которых почти не знал, встречал Новый год, так на то рядом прадедовская Васильевка, а с ней связано столько воспоминаний…
Разумеется, все это лишь предположения. Одно достоверно: Лермонтов явно не спешил – ни в Москву, к Лопухиным, ни в Петербург, где ждала, торопя часы, милая бабушка и где новоиспеченный гродненский лейб-гусар должен был получить соответствующие новому назначению и бумаги, и прогонные деньги. Задерживается, кстати, он и в Москве, и тоже, если считать время по его хронометру, надолго: до середины января. Сезон зимних праздников – балов, театральных премьер… В древней столице в течение почти двух недель гостит автор «Смерти Поэта» – и ни в одном частном письме, ни в одних мемуарах нет даже беглого упоминания его имени! А может, он и не бывает на людях? Сидит себе в Середникове, в родственном кругу, в той «старинной» комнате, где некогда так хорошо писалось? Тогда – писалось, нынче не очень. В дороге Лермонтов написал всего одно стихотворение – «Спеша на север издалека…». Если бы сохранились подневные записи и наброски, которые, со свойственной ему в подобных занятиях пунктуальностью, делал на Кавказе. Но их нет, пропали, украдены, вместе с бумажником, личным оружием и вещами. И на Малой Молчановке не то, что прежде:
Лопухины «изгнанника», конечно же, не забыли, просто им в ту зиму было не до дорогого Мишеля. Алексис поглощен новой любовью, Мария Александровна занята приготовлениями к неминуемой его свадьбе, а пуще всего обеспокоена трудной беременностью и предстоящими родами Варвары.
При прощании Лопухины все-таки опомнились, обещались писать и с Лермонтова слово взяли – непременно, непременно, старый друг лучше новых двух.
В Петербурге сплин поутих. Лермонтов, которому донесли, как высоко оценил Жуковский «Смерть Поэта», сделал мэтру визит. С доведенной до совершенства «Тамбовской казначейшей» заявился. И руки наконец-то дошли, и провинцией, пока добирался до Москвы, надышался вдосталь, да и ехал с тем же чувством, что и два года назад:
Жуковский восхитился и кинулся к Вяземскому. К Плетневу отправились вместе, решив, что такую вещь следует, как и «Бородино», публиковать в «Современнике». Сказать об этом Краевскому Лермонтов долго не решался, но Андрей Александрович, узнав об «измене», не обиделся, все его мысли заняты проектом своего, нового литературного журнала; поделившись великим планом с Михаилом Юрьевичем, попросил не болтать, дабы не сглазить.
Словом, жаловаться на гонения судьбы было грех, одно плохо: дом полон гостей и бабушка, исстрадавшись в разлуке, глаз не сводит. На Кавказе он от этого отвык… Хотел было уже 1 февраля двинуться в Новгород – не пустила. Еле-еле к середине месяца вырвался. В полк тем не менее явился лишь 26-го: значит, где-то опять задержался, и на целых десять дней. Где? Утверждать не берусь, но предполагаю, что в Спасской Полести. Спасская Полесть для гродненских гусар была чем-то вроде курорта, этаким северным Пятигорском. Там, «на шестой станции от Петербурга по Московскому шоссе», любекский уроженец Карл Иванович Грау содержал «очень хорошую гостиницу».
Десять дней в хорошем номере хорошей гостиницы, да еще ежели сюда по вечерам наезжают гурьбой будущие сослуживцы, каковым добрейший Карл Иванович отпускает в долг – и номера, и шампанское, – это ли не улыбка судьбы? К тому же гродненцы в массе своей люди небогатые, поэтому-то и кутежи в превосходном почтовом заведении господина Грау обходятся без обычных старогусарских излишеств.
Впрочем, ничуть не походило на «немытую» Россию и то место, где в феврале 1838-го был расквартирован лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. Вот как оно выглядело, если сделать поправку на время года: (автор зарисовки – А.И.Арнольди, сводный братец «черноокой Россети», – въехал сюда, на территорию 1-го Округа пахотных солдат аракчеевского поселения, еще в августе 1837-го[37]):
«Многочисленные огоньки в окнах больших каменных домов и черные силуэты огромнейшего манежа, гауптвахты с превысокой каланчой, большого плаца с бульваром, обсаженного липами, на первый раз и впотьмах очень живописно представились моему воображению, и я мнил, что вся моя будущая жизнь будет хоть и провинциальная, а городская. Со светом все мои надежды рушились: я увидел себя в казармах, окруженного казармами, хотя, правду сказать, великолепными, так как на полуверстном квадратном пространстве полк имел все необходимое и даже роскошное для своего существования. Огромный манеж (в длину устанавливались три эскадрона в развернутом фланге) занимал одну сторону плаца и был расположен длинным фасом к р. Волхову на полугоре, на которой к реке были полковые огороды. На противоположном фасе… тянулись пять офицерских флигелей, разделенных между собой садиками за чугунными решетками и двумя отдельными домами по бокам, в которых помещались: в одном нестроевая рота, а в другом – наш полковой «Елисеев» – маркитант Ковровцев».