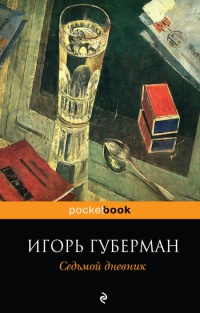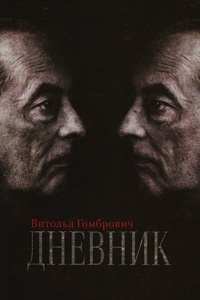Книга Но кто мы и откуда - Павел Финн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тогда праведник Лот лично спас парнишек от коллективного изнасилования. Но в Эльсиноре праведников не наблюдалось, а сами эльсинорцы — народ грубый, откровенный, отчаянный, тоже кого хошь снасильничуют за милую душу.
Наброски из ненаписанного романа
— Эй, пацан! Стой! Ты куда?
— Пропустите, дяденьки! Я за ворота! Только на минуточку! Чесслово! У меня домашнее задание по зоологии! Мышь поймать.
— Не слыхал, тетеря, у нас за выход плата! И немаленькая. В связи с инфляцией и колебанием курса. Раскошеливайся, неча сопли жевать!
Стая белых ворон поднялась в черное небо и улетела — молча — навсегда…
Нету Гамлета, сбежал! Сделал ноги.
А у вас так бывало, когда грудь, когда душа полны слез и страха, но ты знаешь, что все равно сделаешь, что задумал?
“Я один, все тонет в фарисействе, — повторяет внутри себя Сашка и мечется в поисках выхода — прохода, щели, лаза, подкопа — за ограду, в чисто поле. — Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить — не поле перейти!”
Что за чушь? Что я написал? Откуда мальчишка в 53-м мог знать эти стихи из “Доктора Живаго”?
Когда в 50-м году отчим — после интриг и скандалов — в пух и прах разругался в Ереване с руководством Русского драматического театра имени Станиславского и был отчислен из труппы, мы буквально бежали в Москву.
Мне нравился Ереван, но я там тосковал — понемногу. И был счастлив, что скоро смогу увидеть своих друзей по подъезду и, захлебываясь, поделиться с ними своими наблюдениями над жизнью в другом городе и соображениями об отношении полов. Но оказалось, когда встретились, что на эту тему они гораздо более продвинуты. Да и в трех мушкетеров уже не играют. Они были старше меня, а мне было десять лет.
Обратную дорогу на поезде в Москву я совершенно не помню. Ax, если б знать, что когда-нибудь понадобится та жизнь. Если бы тогда понимать, за чем следить, что запоминать!
1983-й, сентябрь. Москва, улица Эйзенштейна. Наконец-то у нас своя квартира. Пять лет скитались — не особенно горюя — по чужим домам и квартирам, не имели собственной крыши и стен. И вот!
“Невозможно предполагать, чтобы вся жизнь была из одного труда да неудач. Бог даст, и выйдет что-нибудь”.
Два дома напротив студии Горького. В одном — хорошем — живут Ростоцкий, Сегель, Фрез, Лиознова и другие “известные советские кинематографисты”. В другом — бедная пятиэтажка, “хрущевка” — непонятно кто, всякой твари по паре, но он тоже “студийный”, тоже в ведении Союза.
Кто-то выезжает из него в Дом ветеранов, и в крошечной двухкомнатной квартирке поселяемся мы. При горячем содействии Толи Гребнева, тогда председателя нашей сценарной комиссии. И при доброжелательстве Льва Александровича Кулиджанова, тогда Первого секретаря Союза. Толя Гребнев, как и он, тбилисец, его друг и соавтор, сделал ему из-за нас, как говорят в Одессе, дырку в голове — и он “подписал”.
Я был не очень заслуженный член Союза, совсем даже не заслуженный. Но Ирину маму все помнили, да и Иру любили. И кроме того, начальство несколько умиляло, что мы, несмотря на все зловещие пророчества и ожидания, вместе уже пятый год.
Недорогой ремонт в первой квартире производил задумчивый гастарбайтер, украинец-”западенец”, как ни странно — поклонник и последователь философа Николая Федорова, “основателя русского космизма”.
Мы в эти летние месяцы жили в Болшеве. “Западенец”, в отличие от своего духовного учителя, мечтавшего преодолеть смерть и населить мир воскресшими предками, пока что — для начала — населил нашу квартиру некоторым количеством совершенно живых колумбийцев, уж не знаю, откуда он их взял. Так что после этого в отремонтированной квартире долго попахивало не только краской, но и марихуаной.
Мы вдвоем с Ириной, надрываясь, втащили на третий этаж тяжеленную тахту, поставили для Катьки детскую старинную кровать, которую нам подарила подруга Норы Агишевой и главный редактор райзмановского объединения Ада Репина, и стали жить. Вчетвером. Четвертым был любимый французский бульдог Гек, по паспорту — Гекльберри Финн.
На новом месте стали сниться новые сны.
Время от времени доходят глухие слухи о Давиде Маркише, уже одиннадцать лет жившем в недоступном Израиле. И вот…
Запись 1983-го
Опять тот же сон. Давид. И как будто он ездит оттуда сюда, а отсюда — туда. И что-то есть в этих поездках, в этом постоянно запутанном сюжете такое, что меня волнует и внушает странное чувство опасности, риска, тоски, раздражения.
Сон — задолго — оказался “в руку”. В 89-м Давид появится в Москве.
В скором времени свежий еще ремонт сильно пострадал. В “хрущевке” с ее жидкими гипсокартонными перекрытиями стали менять трубы, стояки, батареи. В полу кухни образовалась дыра, сквозь нее можно было наблюдать, что происходит на кухне второго этажа.
А происходило там постоянное пьянство и буйство. Одновременно с нами в нижней квартире появился — непосредственно из места заключения — сын старушки-хозяйки, мрачный и всегда нагло и опасно пьяный рыжий уголовник, отбывший срок за бандитизм. Когда он у себя на кухне поднимал глаза, а я — на кухне у себя опускал, взгляды наши встречались — в дыре. И я — на всякий случай — глаза отводил.
У нас совершенно не было денег, только список долгов. Но мы жили хорошо. Ирина попыталась продать какие-то немногие драгоценности, оставшиеся от мамы. Приятель посоветовал одного верного — специального — человека. За небольшие комиссионные он брался выгодно сбыть товар. Комиссионные на поверку оказались слишком большими. “Специальный” взял драгоценности на показ клиенту и пропал с ними навсегда. По слухам — непроверенным — его убили. Если так, в какой-то степени это его оправдывает.
Но мы жили хорошо. Нас не тяготило ни “съемное” существование в чужих квартирах с ужасными обоями, из-под которых время от времени выползали клопы, ни дырка в полу первого нашего собственного жилья.
Жить лучше? Да что это значит? Мы жили хорошо.
И очень существенный вклад в такое состояние, конечно, вносила Катька. Это было, как наблюдать день за днем произрастание цветка. Вот выстрелил стебелек и окреп, вот расправились лепестки, и вот, наконец, раскрылся венчик — прекрасное и благоуханное цветение.
Любовь и кровь не всегда рифмуются, это я хорошо знаю. Может быть, любовь все-таки важнее крови?