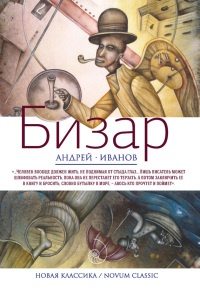Книга Сказание о Йосте Берлинге - Сельма Лагерлеф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Как же они счастливы! – с внезапным отчаянием воскликнула капитанша. – Как счастливы те, кто может оплакивать своих мертвых! А мне суждено стоять с сухими глазами у могилы сына и радоваться его смерти… Боже, как я несчастна!
Анна прижала руки к груди. Она помнила ту зимнюю ночь, когда поклялась своей юной любовью помочь этим бедным людям, быть им опорой и утешением, и вдруг ей стало страшно. Неужели все было напрасно? Неужели жертва ее неугодна Господу? Неужели благодеяние обернулась проклятием?
А если она принесет еще одну жертву? Может быть, тогда Бог благословит ее самоотречение? Может быть, Он позволит ей стать поддержкой и опорой для этих людей?
– Что я могу сделать, чтобы ты могла оплакать своего сына? – спросила она.
– Что ты можешь сделать? Научи меня, если можешь, не верить моим старым глазам. Если бы я могла поверить, что ты любила Фердинанда, я смогла бы выплакать свое горе, смогла бы дать выход скорби, смогла бы пережить все, что должна пережить мать, потерявшая любимого сына.
Девушка резко поднялась. Глаза ее горели сухим огнем.
– Тогда смотри! – выкрикнула она, сорвала с себя венок и фату и положила на могилу. – Смотри, как я его люблю! Я венчаюсь с ним и никогда не буду принадлежать другому.
Капитанша тоже встала. Она несколько секунд молчала, дрожа всем телом, и наконец из глаз ее полились слезы, слезы скорби и тоски по невозвратимой потере.
А моя бледная подруга, Смерть-избавительница, очень огорчилась, увидев эти слезы. Все ее надежды пошли прахом – она-то надеялась, что хоть здесь ей рады.
Оказывается, нет. Не рады. Она в который раз поняла, что ей не дано постичь душу человеческую. Соскользнула с забора и, опустив на мертвое лицо капюшон, ушла, скрылась за длинными рядами сжатых снопов.
Засуха
Если неодушевленные предметы могут любить, если земля и море умеют отличать друзей от врагов, как хотелось бы мне, чтобы они меня полюбили! Чтобы знали: я им не враг! Я мечтаю, чтобы зеленая земля не стонала под тяжестью моих шагов, чтобы она простила мне все плуги и бороны, которые ранят ее исстрадавшееся тело. И самое главное, когда я умру, пусть земля примет меня в свои объятия без отвращения. Как бы мне хотелось, чтобы зеркальная гладь озера, взломанная моими веслами, была так же снисходительна, как снисходительна мать к своему ребенку, когда он, не обращая внимания на свежевыглаженную шелковую юбку, забирается к ней на колени. Мне хотелось бы подружиться с прозрачным воздухом, дрожащим, как мираж, над синими горами, с ослепительным солнцем, с загадочно-прекрасными звездами. Мне и в самом деле кажется иной раз, притом довольно часто, что неодушевленные вещи на самом деле не такие уж неодушевленные. Думаю, они чувствуют и страдают точно так же, как и мы, люди. Как и мы, люди, по молчаливому уговору считающие себя живыми. И разница между нами не так велика, как мы привыкли считать. Найдите хотя бы частицу неодушевленной, как мы ее называем, материи, которая не принимала бы участие в великом и вечном кругообороте? Пыль под колесами вашего экипажа – возможно, она была когда-то волосами, которые гладила ласковая рука любимого, а может быть, этой самой ласковой рукой. Вода в колее – кто скажет с уверенностью, что она не пульсировала когда-то в бьющемся сердце?
И пока есть жизнь на земле, дух ее обитает не только в нас, но и во всем, что нас окружает, в предметах, которые мы называем неодушевленными. О чем догадываются они в долгом, без сновидений сне? Они слышат глас Божий – в этом я не сомневаюсь. Но слышат ли они глас человеческий?
О, дети нынешних времен, разве вы не замечали? Когда кровавые битвы и ненависть сотрясают землю, страдают не только люди. Моря дичают, они становятся кровожадными, а поля делаются скупыми, как ростовщик. Но горе тем, из-за кого плачут горы и печально вздыхает лес!
Странным был год правления кавалеров. Суета человеческая смутила и покой неживой природы. Как мне описать эту заразу, распространившуюся в наших краях, как черная смерть пятьсот лет назад? Неужели и вправду кавалеры приобрели какую-то власть над Вермландом, неужели они, как языческие боги, распространили дух беспечности, безделья и жажды все новых и новых приключений на всю округу?
Если описать все, что творилось в тот год на берегах Лёвена, мир бы открыл рот от изумления. В самом воздухе словно растворен был сладкий яд. Возрождались старые влюбленности, возникали новые. Разгоралась почти забытая ненависть, затаенная месть находила свою жертву. Время пролетало в танцах и играх, карточной игре и пьянстве. Всех охватила жажда наслаждений, и все желания, спрятанные глубоко в душе, оказались выставленными напоказ.
Конечно же зараза шла из Экебю. На заводах, в усадьбах люди словно с ума посходили, совершали поступки, о которых раньше даже и подумать не могли без дрожи. Мы знаем все эти истории, потому что старики еще помнят, что происходило на заводах и в больших поместьях, но нам почти ничего не известно, что происходило на бедных хуторах и среди арендаторов, но можно не сомневаться, что беспокойное время отразилось и на них. Люди, словно одержимые, вдруг захотели исполнения самых порочных желаний, неловкое слово, сказанное в семье, маленькая ссора, которая в нормальные времена была бы тут же забыта, приводила к разрывам. Все тайное становилось явным, но не только дурное – скрытые добродетели людей, о которых никто и догадываться не мог, тоже проявлялись во всей своей красоте. Нельзя сказать, чтобы все было скверно, но поверьте, странное было время – даже добрые поступки не хуже дурных приводили к самым печальным последствиям. Все это напоминало бурелом в лесу: дерево падает на дерево, одна сосна увлекает за собой другую, и даже подлеску приходится несладко – падающие гиганты сминают его, как траву.
А что касается простого народа, крестьян, слуг, работников, хоть мы и мало о них знаем, но можно не сомневаться: всеобщее помешательство отразилось и на них. Сердца ожесточились, рассудок помутился. Никогда не было таких диких плясок на перекрестках, никогда бочки с пивом не опустошались с такой скоростью, никогда столько зерна не шло на брагу, никогда перегонные кубы не ведали такой нагрузки. Никогда не было так неспокойно на пирушках – в ответ на неловко сказанное слово тут же появлялись ножи.
Словно отравленный ветер носился по Вермланду.
И не только людьми овладело необъяснимое беспокойство. Волки и медведи словно с цепи сорвались, лисы беззастенчиво забирались в курятники, и никогда раньше на хуторах не слышали их предвещающий беду хриплый, с подвыванием лай. Заблудившиеся овцы пропадали в лесу, а эпидемии скота шли одна за другой. Приходилось то и дело закапывать мясо, а ведь оно могло бы спасти от зимнего голода целые семьи.
Конечно, из города всего этого не увидеть. Надо пожить на отдаленном хуторе где-нибудь на опушке нескончаемого елового леса. Или следить сутками напролет за углежогной ямой, или жить на берегу озера в наскоро сколоченной хибаре и белыми ночами следить за неторопливым и капризным движением плотов в Венерн. Только так можно научиться распознавать тайные знаки и сообразить: что-то не так. В природе тоже царит тревога и ожидание беды.