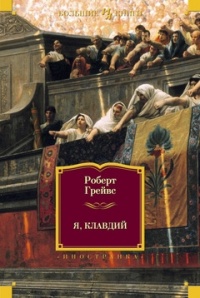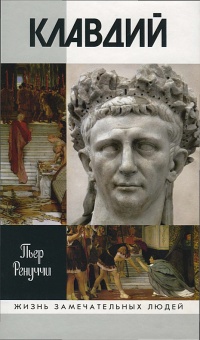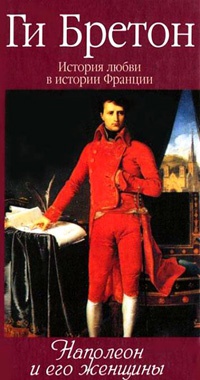Книга Император Юлиан - Гор Видал
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
- Каков он был в последние дни?
- Когда он был в сознании, он гневался.
- На меня?
- Нет, государь, он гневался на то, что ему приходится умирать в расцвете лет и оставлять молодую жену.
- Да, это тяжело, - тактично заметил я, как того требовал момент. Нужно иметь каменное сердце, чтобы не выразить сострадание умирающему, даже если это твой враг.
- Третьего ноября перед рассветом император, подобно своему отцу, попросил, чтобы его окрестили. Когда обряд совершился, он попытался сесть в постели и хотел что-то сказать, но задохнулся и умер. На сорок пятом году жизни, - добавил Алигильд, будто произнося надгробную речь.
- И на двадцать пятом году царствования, - заметил я в той же манере.
- Молись, Август, - вырвалось вдруг у Оривасия, - чтобы твое царствование оказалось столь же долгим.
Мы помолчали. Я попытался мысленно представить себе, как выглядел Констанций при жизни, и не смог. Когда умирает государственный деятель, в памяти остаются только его статуи, особенно если их так много. Я помню изваяния Констанция, но не его живое лицо, даже огромные темные глаза моего брата кажутся мне теперь пустыми овалами на ликах мраморных статуй.
- Где сейчас находится Евсевий, хранитель священной опочивальни?
- Он все еще в Мобсукрене. Двор ожидает твоих приказаний. - Голос Алигильд а впервые дрогнул. - Ты, Август, - законный наследник, - сказал он как-то неуверенно и указал на письмо, которое я держал в руке.
- В Священной консистории никто… не возражал?
- Нет, государь! - ответили в один голос Алигильд и Теолаиф. Я встал.
- Завтра вы оба возвратитесь в Мобсукрену. Членам Священной консистории объявите, что я жду их в Константинополе, и как можно скорее. Проследите, чтобы прах моего покойного брата был доставлен в столицу для погребения, а его вдове оказывались все почести, приличествующие ее сану. - Офицеры отдали честь и удалились.
Оставшись одни, мы с Оривасием вскрыли завещание Констанция. В отличие от большинства императорских посланий оно было кратким и по существу - сразу было видно, что его диктовал не адвокат.
- "По моей смерти, - говорилось в нем, - цезарь Юлиан становится законным римским императором (даже на смертном одре Констанций не устоял перед искушением подпустить мне шпильку). Он сам увидит, что я с честью исполнил свой долг государя. Несмотря на многочисленные смуты внутри страны и нашествия врагов извне, в мое царствование империя процветала, а границы ее были надежно защищены".
- Интересно, что об этом скажут в Амиде? - улыбнулся я Оривасию и стал читать дальше.
"Мы поручаем нашу молодую жену Фаустину заботам нашего благороднейшего брата и наследника. На ее содержание выделены средства по отдельному завещанию. Перед смертью мы возносим молитвы, чтобы наш благороднейший брат и наследник соблюдал это завещание, как подобает великому государю, чей долг - быть милосердным к слабым".
- Когда-то я именно это пытался сказать ему, - заметил я, помолчав, но Оривасий как-то странно на меня посмотрел.
- Он-то тебя пощадил, - сказал он.
- Да, на свою голову. - Я бегло проглядел оставшуюся часть завещания. В ней Констанций отказывал своим друзьям и приближенным различные поместья и денежные суммы. Меня особенно потрясла фраза: "Нам трудно найти нашему благороднейшему брату и наследнику более мудрого и преданного советника, нежели хранитель священной опочивальни Евсевий". Она заставила рассмеяться даже Оривасия. А закончил Констанций обращением непосредственно ко мне. "Между цезарем Юлианом и мною существовали разногласия, но, думается, оказавшись на моем месте, он поймет, что мир не так уж велик, как это казалось ему ранее, когда он еще не поднялся на эту вершину, где может поместиться лишь один человек. Он поймет также, что огромная ответственность за всех заставляет этого человека порою принимать поспешные решения огромной важности, о которых приходится впоследствии сожалеть. Императора не дано понять никому, кроме ему подобного, - мой благороднейший брат и наследник поймет это, как только поднимет державу, выпавшую из моих рук. После смерти я навечно становлюсь его собратом по пурпуру. Куда бы ни счел Господь нужным поместить мою душу, я буду наблюдать за деяниями моего брата с сочувствием и надеждой, ибо, познав все величие и мучительное одиночество, сопутствующие его новому сану, он сможет если не простить, то понять своего предшественника, желавшего только стабильности в государстве, неукоснительного и справедливого исполнения всех законов и торжества истинной веры в Бога, который дарует всем нам жизнь и к которому мы все в конце ее возвращаемся. Молись за меня, Юлиан".
Таковы были последние его слова. Мы с Оривасием потрясенно переглянулись: было трудно поверить, что это безыскусное послание принадлежит человеку, четверть столетия правившему миром.
- Это был сильный человек. - Вот и все, что я сумел сказать.
На следующий день я приказал принести богам жертву. Мои легионы были в восторге не только оттого, что я стал императором (а значит, междоусобной войны не будет), но и оттого, что им позволили открыто воссылать молитвы старым богам. Многие из солдат были моими братьями по Митре.
Приск: А вот это уже неправда! На самом деле, услышав приказ о жертвоприношении, армия чуть не взбунтовалась, особенно недовольны были офицеры. В то время к Юлиану втерся в доверие некий галл по имени Апрункул. Он предсказал смерть Констанция, обнаружив у жертвенного вола печень с двумя долями, что означало… и прочее, и прочее. В благодарность за счастливое предсказание Юлиан назначил Апрункула губернатором Нарбонской Галлии. В то время ходила шутка: найди этот пройдоха печень из четырех долей, править бы ему всей Галлией.
Апрункул также уговорил Юлиана поставить рядом со своими изображениями изображения богов: мол, если кто-нибудь в знак почтения к императору воскурит перед его изображением фимиам, он одновременно, хочет того или нет, почтит и богов. Эта идея также пришлась многим не по вкусу, но Юлиан об этом умалчивает.
Юлиан Август
Не прошло и недели, как я распорядился тронуться в Константинополь. Не буду подробно описывать наше тогдашнее ликование. Даже зима, самая морозная за много лет, не в силах была его остудить.
Мела вьюга, когда мы миновали Сукки и спустились во Фракию. Ночь мы провели в древнем Филиппополе, а потом двинулись на юг. Еще не наступил полдень, а мы уже достигли Гераклеи - города в пятидесяти милях от Константинополя, где меня ожидал сюрприз. К моему изумлению, на городской площади выстроилась большая часть членов сената и Священной консистории, которые поспешили мне навстречу.
Я был совсем не готов к торжественному приему. После нескольких часов в седле я был весь покрыт грязью и валился с ног от усталости; кроме того, мне отчаянно хотелось по нужде. Представьте себе картину: новоиспеченный император, с ног до головы покрытый пылью, глаза у него слезятся от утомления, мочевой пузырь переполнен, а ему приходится принимать участие в медленной, размеренной церемонии и выслушивать велеречивые приветствия почтенных сенаторов! При этом воспоминании меня разбирает смех, но тогда я изо всех сил старался казаться милостивым и любезным.