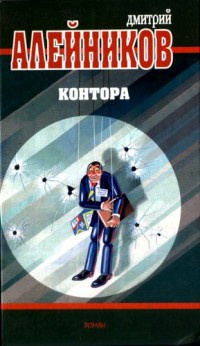Книга Почта святого Валентина - Михаил Нисенбаум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Одна из двух лампочек у лифта не горела. Может быть, именно поэтому белизна бумаги, проглядывавшей сквозь прорезь в почтовом ящике, была так заметна. Стемнин не проверял почту уже недели две. Сердце шевельнулось.
В шелухе рекламных листовок спрятался конверт. Обратного адреса не было, здешнего адреса тоже. Вообще ничего не было, кроме букв И. К. С. в графе «кому». Еще не зная, от кого письмо, Стемнин почувствовал, как пробегает по телу сладкая судорога, как давно он не прикасался к письмам и как стосковался по ним. По сердцебиению, по вот этому нетерпеливому угадыванию: что там, от кого? В конверте оказалась тоненькая стопка листков из блокнота. Не раздеваясь, Стемнин заглянул на последний листок. Выяснив, кто автор, наспех побросал вещи и принялся жадно читать:
«Здравствуйте, Илья Константинович!
Как поживаете? Это вам голову морочит Алена Ковалько, помните меня? За семь месяцев, что вас не видела, поняла, какой я сильный человек. Каждый день хотелось разыскать вас и заставить вернуться. Тогда я малость схитрила про культурологию. В гробу я видала вашу дурацкую культурологию, если честно. Изучала ее как самый важный в жизни предмет из-за вас. Да, так вот. Силы, чтобы не искать вас, мне хватило, а чтобы позвонить или написать — нет. Вот теперь пишу. Значит, я все еще расту, видите?
Каждый день читаю мантры как заведенная: мол, в институт я хожу не ради воспоминаний о том, что с 1812 по 2001 год здесь жил и работал Илья Константинович Стемнин. Некоторое время спасалась тем, что писала повсюду ваше имя, раскрашивала буковки то цветными ручками, то светлыми слезами. А потом перестало помогать, даже как-то наоборот. Словно расцарапываешь.
Попробовала тогда другое: не вспоминать про вас. А каждый раз, когда вспомнитесь помимо воли, тут же переключаться на что-нибудь гадкое. Вспомнишь очки ваши — сразу стараешься думать про склянку с ихтиоловой мазью. Или придет на ум имя ваше, тут же заменяешь на „свинья“ или „попадья“. Прикольно было. Рифм правда не хватало. Даже словарик у меня появился: Стемнин — уксус, культурология — козий сыр, преподаватель — старая калоша. Дня два помогало. А потом отец погнал меня в магазин за сметаной. Прохожу мимо бакалейного отдела, вижу — бутылочки с уксусной кислотой. Она! Уксус — Стемнин. Потом недалеко от сметаны козий сыр нарисовался. Культурология, в обратном переводе. Ну как вам это понравится?
Вот у меня к вам такая маленькая просьба, Илья Константинович (пишу и плачу от радости, что наконец ваше имя вам же пишу, вот дура-то!). Не могли бы вы в связи с моими успехами в учебе и творческим отношением немного потесниться и дать мне дышать? Но если вы — моя кислородная подушка или там искусственная почка, давайте вы будете где-то поблизости?
Надеюсь на вашу гуманитарную помощь, если вы меня понимаете.
Алена».
Внизу были адреса: почтовый, электронный и два номера телефона.
Как сквозь прореху в небесной мешковине показываются лезвия солнца, и макушки дальнего леса, и окна верхних этажей, и мириады пылинок в комнате, все от мала до велика вспыхивает, оживает, обретает голос, так внутри бывшего преподавателя разом озарился каждый уголок, истончились и раскрасились даже самые мрачные залежавшиеся тени. Глядя на листочки, исписанные аккуратным, не искаженным волнениями девичьим почерком, Стемнин вытянул губы, точно хотел поцеловать себя в кончик носа. Любовь девушки, когда-то запретно интересовавшей его, а потом почти позабытой, предъявила бывшему преподавателю его новый, прежде не виданный, но сразу признанный истинным образ. Ведь каждый человек про себя верит, что достоин любви и наделен для этого необходимыми качествами, пусть даже самыми странными и незаметными.
Обводя глазами комнату, в которой он так много страдал, Стемнин словно просыпался от мучительного сна. Это был его мир, с которым он был так долго разлучен, но который остался ему верен. Вещи, оттаявшие от несчастья, сейчас смотрели на него доверчиво и выжидательно. Не выпуская листки из рук, Стемнин бродил по дому, знакомя со своей новой радостью каждый уголок: затаенное мерцание дерева стола под лампой, прохладные сады, вытканные на шторах, предвесеннюю ночь, шевелящуюся за грязными стеклами.
В темноте за окном он разглядывал одному ему заметные картины будущей встречи. Да, он будет с девочкой нежным, бережным, взрослым, но не станет никого изображать и мимикрировать под нарисованный ею образ. Да и что она там нарисовала? Стемнин вспомнил дерзкие глаза, хвостик, бейсболку и еще раз нырнул в письмо. Лампа читала через плечо и вся светилась. Неожиданно, прислушиваясь к своему счастью, он понял, что гораздо сильней хочет ответить на письмо девушки, чем увидеть ее, услышать голос, прикоснуться. Он сгорал от нетерпения сесть к столу, не спеша вглядеться в белую страницу и начать выводить маленькие буквы. Вот что было сейчас настоящим соблазном.
За последние месяцы письма обратились в табу, хуже того, в предвестье беды. Но вот сегодня он получил письмо и воскрес. Полученное послание не было ни притворством, ни иллюзией, ни игрой. Он впрямь был покойник, механический автомат, а теперь ожил, помолодел, развеселился. Не зная, как еще выразить радость, он распахнул форточку и подставил лицо бодрящему холоду.
И все же что-то мешало ему приняться за письмо. Стемнин чувствовал себя как человек, давший некогда торжественный зарок, а теперь пытающийся его нарушить. Хотя никаких формальных обещаний ни себе, ни Богу, ни другим людям он не давал, душа была не на месте. Необходимо как следует все обдумать. Схватив блокнотные листки, он заметался по комнате, словно пытался найти место, куда можно спрятать только что обретенную и ускользающую радость.
Вдруг он застыл как вкопанный. Конечно! Нужно записать на бумаге все свои сомнения, все «но» — без околичностей, без изъятий, без ораторских искажений — и вывести правила, такие же прочные и торжественные, как прежняя невысказанная клятва.
Он сел за письменный стол, вытащил из ящика чистый лист бумаги и аккуратно, с удовольствием вывел:
«Здравствуй, запутавшийся и завравшийся я!
Это письмо к себе самому, следовательно, не вполне письмо — пусть твоя-моя совесть будет чиста».
Сначала он хотел написать про то, что человек не должен вмешиваться в судьбы других людей, играть роль кукловода, но довольно быстро понял, какой это слабый аргумент: вольно или невольно все вокруг вмешивались в ход чужих жизней, и отменить это не в его власти. Пытаясь осознать, почему именно письма, которые он так хорошо умел писать, оказались виновниками его несчастья, он довольно быстро добрался до сути:
«Можно ли доверять словам? У слов своя жизнь, своя правда и своя ложь. Но даже самые правдивые слова никогда не охватывают всю полноту картины, а значит — недоговаривают. Недоговаривают, впрочем, и фотографии, которые принято считать „документальными свидетельствами“. Но фотографии хоть что-то отражают. Слова не отражают ничего — они создают мир заново, с нуля, и слово „молодость“ — такое же фантастическое изобретение, как „эльф“. Чем правдоподобней картина речи, тем опасней ложь. Это хорошо известно политическим ораторам, переговорщикам и адвокатам. Души слушателей в упряжке слов несутся вскачь или плетутся в свое стойло, да и сам возница оказывается в их власти: его подхватывают и несут собственные речи.