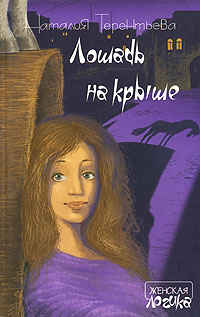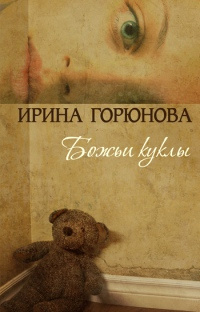Книга Прискорбные обстоятельства - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Капустина вытягивает тонкую шею по направлению моего взгляда, с каким-то строгим недоумением глядит на синтетический коврик в прихожей, потом переводит глаза на меня:
— Ты это серьезно?
«Неумные у тебя шутки!» — прочитываю я на ее лице, но произнести вслух она не решается, потому что понимает: шутка — с подтекстом, и любое возражение с ее стороны обернется невольным уточнением нашего статус-кво на сегодняшний вечер.
Вместо этого она делает вид, что сердится, и потому излишне резка в движениях: обдает кипятком чайник для заварки, сыплет в навесное ситечко чайный лист, заваривает, укрывает чайник стеганой рукавицей — и все это сопровождается у нее фаянсовым звоном чашек, громыханием выдвижного буфетного ящика, звяканьем ложечек о розетки и блюдца.
— Вот чай, вот мед, вот печенье к чаю, — со злым пристуком подает мне угощение Капустина. — Приятного аппетита!
— А коньяк? — как ни в чем не бывало брюзгливо вопрошаю я. — Изволь, как обещано, влить в чашку ложечку коньяка. Иначе я не согласен…
— На что не согласен?
— На все вот на это… Нечего, понимаешь, на мне экономить!..
Какое-то время мы обмениваемся задиристыми взглядами, как два бойцовских петуха, потом я встряхиваю головой, скалюсь и фыркаю, и смешливая Капустина, не удержавшись, заливается смехом вслед за мной.
Наконец-то! — первое напряжение от нежданной встречи миновало, и вот уже мы грызем печенье, отхлебываем из чашек чай, балуемся медом и болтаем о пустяках, как два близких человека, которым не впервой коротать на кухне часы бессонницы. Нам хорошо и покойно в эти минуты, и если бы не тайная заноза под сердцем — Абрам Моисеевич! — я, так и быть, позволил бы себе слабость — присмотреться к женским прелестям Капустиной и даже подумать о них с вожделением. Если бы не старина Абрам Моисеевич!..
Я прикрываю глаза, словно впадаю в состояние блаженства от горячего чая с медом, и вижу как наяву — сумерки, черно-синие еловые лапы, стылое тельце, обвернутое в старую байковую рубашку. Жил-был кот… Жил-был кот… Жил-был…
А еще слышу слова жены: «Я тебя ненавижу!». За что? За какие грехи или проступки можно ненавидеть человека, с которым связана лучшая часть жизни? Или эта часть худшая для нее, и я попросту не заметил ни печалей, ни горестей, которые испытала со мной она? Но какие это печали и горести? За истечением лет мне видится только один непоправимый, смертный грех — убийство нашего неродившегося ребенка. Но сколько можно об этом?! Сколько можно?!
— Да-да, конечно! — спохватываюсь я, и киваю, и неосмотрительно соглашаюсь с какими-то словами Капустиной, проскользнувшими мимо моего сознания. — А впрочем…
Она пристально смотрит на меня прозрачными, как родниковая вода, глазами, словно спросить хочет: эй, где это ты был сейчас? Но не спрашивает — она деликатная девочка, а может, разумно избегает прямых вопросов, чтобы не получить ответ, какого не ожидаешь.
И опять она говорит, а я восклицаю: «Да!», «Ну что ты!», «Разумеется, вне всякого сомнения!» — а тем временем думаю: и что ты нашла во мне? Даже то, что я выгляжу моложе своих лет, никаким образом не превращает нас в пару. Кожа у тебя молодая, руки нежные, глаза живые, ты как нетоптанная лужайка посреди майского леса. А я понемногу ржавеющий осенний пригорок, на какое-то, совсем короткое время освещенный скупым, прощальным солнцем.
— …У них дом за городом, — снова, не без усилий над собой различаю я голос Капустиной, потому что больше не желаю вникать в подлый шепоток собственных мыслей. — Пройдешь улочку, пройдешь другую, повернешь направо — речка, она этой зимой почему-то не замерзает; повернешь налево — лес. Я им говорю: родители, вы живете как на курорте.
— И в самом деле, курорт!
— Нет же, это я — чтобы не унывали. А все не так. Весной, летом, осенью — посадка, прополка, опять прополка и опять. Потом сразу — засолка, заготовка, сбор урожая. Только и счастья, что три месяца зимой… И вообще, что ты понимаешь в деревенской жизни?!
— Что-то понимаю. У меня как-никак тоже дом, а вокруг дома — сад, грядки…
— А на грядках что? Укроп и петрушка?
— Так! Тебе никогда не говорили, что ты невоспитанная, взбалмошная, наглая, злая девица?
— А ты разъездной барин! Развалился в тепле, чай с медом пьешь. Еще и коньяк тебе подавай!
— Кстати, за чай спасибо.
— Еще налить? — тут же остывает Капустина, лицо у нее вытягивается, бледнеет, становится испуганным и несчастным.
Нет уж, на ночь чай — одно беспокойство! Я выбираюсь из-за стола и, в подступившей обвальной тишине, принимаюсь складывать в мойку грязную посуду: чашку, блюдце, розетку, чайную ложку, — все неторопливо и по порядку, честь по чести. Это занятие помогает какое-то время увиливать от глаз девочки. А если взять и вымыть после себя посуду и тем самым еще на несколько минут оттянуть неверное продвижение по канату над пропастью?..
— Я сама вымою, — квелым, задушенным голосом пресекает эту мою попытку Светлана. — Сейчас все равно нет горячей воды.
— Ну тогда…
— Пойдем спать.
Вот чего я боюсь и чего так хочу! Вот зачем я на самом деле пришел: не из-за горя-несчастья, не из-за нелепой гибели Абрашки, а потому, что во мне наконец-то созрела готовность — прийти и остаться. И нет никакого значения, остаться на время, до утра, или до конца жизни. Потому что так задумано природой. По этой задумке мужчина и женщина, сами того не ведая, пребывают в непрестанном поиске нового партнера, явно или скрытно, как это называется теперь, мониторят жизненное пространство вокруг себя. В результате совпадения или, вернее, попадания в «яблочко» происходят чаще, чем мы думаем, — просто не всегда время совпадает с местом.
Это ли не оправдание мне — яко библейскому змию, искушающему яблоком с запретного древа?!
Я медленно поворачиваюсь, по сантиметру переставляя ноги на узком пятачке между столом и раковиной, и наконец отваживаюсь посмотреть в глаза Капустиной. Но она уже произнесла главное, она переступила через себя, и потому, наверное, в этих глазах не осталось недавнего стыда и страха.
— Света, я не…
— Уже поздно. Пойдем… Не бойся, я для себя давно так решила…
Под утро я пробуждаюсь после недолгого глубокого сна. В комнате предрассветно сереет, точно она наполнена зыбким сизым туманом. Я лежу на спине, утопая в мягкой пуховой подушке, пристроенной на валике дивана, а рядом, опершись зябкими лопатками о диванную спинку, сидит и смотрит на меня, спящего, она. Еще одна женщина, впустившая меня в свое тело и душу.
В смутном бесцветном свечении зачинающегося утра я хорошо вижу ее спутанные светлые волосы, воробьиную шею и острые лопатки, округлые груди с изящными крохотными сосками, выставленную коленку и еще кое-что, прежде запретное, а после сегодняшней ночи доступное для меня.
Свет мой Светлана, прелесть ты моя!