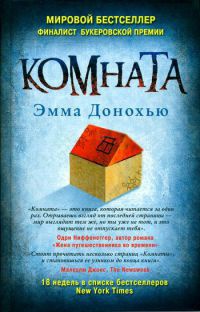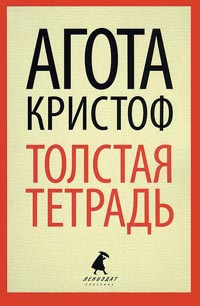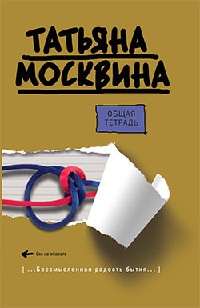Книга Бездна - Александр Лаптев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но все эти недуги – ревматизм, пневмонию (неподтверждённую), сердечную недостаточность (тоже взятую на глазок) – он не мог указывать в своём ходатайстве об отправке заключённого в центральную колымскую больницу. Вот если бы ему оторвало руку или ногу на производстве, тогда другое дело – это сразу всем видно. А так – весьма сомнительно. И всё же он решил рискнуть, рассудив, что в главной больнице работают опытные врачи, среди которых есть светила медицины, европейские профессора, известные медики, по учебникам которых учились студенты медицинских институтов. Они и сами должны понять причину отправки с прииска этого больного.
И он твёрдой рукой написал врачебное заключение, поставив в графе диагноз – shigellos, а в скобках дописав: «дизентерия». В «анамнезе» он отметил всё то, что и было в действительности – изношенное сердце, ревматизм, гипертонию и сломанные рёбра. Он мог бы приписать сюда дистрофию, пеллагру, цингу, диарею и деменцию. Но не стал этого делать: всё это и так очевидно. И главное, ни цинга, ни пеллагра, ни мультифокальная деменция не могли служить причиной для получения инвалидности, поскольку этими недугами страдали девяносто процентов всех заключённых советской Колымы. Возвращать их на материк никто не собирался, потому что там они напрочь испортили бы картину передового социалистического строительства. (Да и кто тогда будет добывать так нужное стране золото?..) Советская власть не могла допустить публичного позора. Деяния рук своих она надёжно прятала (преимущественно – в землю).
В долине реки Хатыннах уже трещали пятидесятиградусные морозы. Знаменитый полюс холода – Оймякон – располагался в той же климатической зоне, на той же широте, что и прииск имени Водопьянова. До него было даже ближе, чем до Магадана. Знаменитые северные новеллы Джека Лондона, в которых небо блестело, «как отполированная медь», а малейший шёпот казался «святотатством», – описывают ту же природу, тот же климат, что и на Колыме. То же «белое безмолвие», те же «зловещие деревья» и тот же «дух скорби», витающий над всем этим краем. Но знаменитому писателю и первому председателю студенческого социалистического общества в Америке даже в жутком сне не могло привидеться то социалистическое будущее, которое наступит через сорок лет после написания его замечательных новелл, – когда сотни тысяч людей будут брошены в эти ледяные пустыни и все они под страхом смерти станут долбить мёрзлую землю в пятидесятиградусный мороз, получая за это килограмм хлеба, миску баланды и ежедневные проклятия и тумаки от озлобленных охранников и потерявших человеческий облик уголовников. Ничего такого не было и не могло быть в его мужественных рассказах. Придумать такое мог лишь какой-нибудь средневековый мистик вроде Данте Алигьери (да и то сомнительно, ведь в аду тоже была какая-то справедливость, совсем уже невинных людей туда не принимали и зазря никого не мучили!). Но советская действительность затмевала самые мрачные прогнозы и превосходила самую жуткую фантазию. В этом ей не было равных.
Пётр Поликарпович Пеплов должен был умереть в этой северной глуши, остаться навеки в ледяных песках с ничтожной примесью золота, сделаться частью этой каменистой почвы, удобрить её своим телом. Смерть уже тянула к нему свои костлявые руки, предвкушая очередную поживу. Но судьбе угодно было отсрочить это событие. Пётр Поликарпович не умер в эту зиму 1940 года, как умерли сотни тысяч других заключённых – на этом и других приисках Колымы. Это была неслыханная удача, каприз судьбы, благосклонный взгляд Фортуны, случайно брошенный на уже умирающего человека.
Ранним морозным утром из лагерных ворот выехал грузовик, кузов которого был затянут обындевевшим брезентом. В кузове, среди сломанных лопат, тачек и прочего дрязга, прямо на занозистых досках лежал, притиснутый к борту, человек. Этим человеком был Пеплов Пётр Поликарпович. Перед отправкой его одели в изорванный, в нескольких местах прожжённый бушлат третьего срока носки, завернули в тряпьё, какое попало под руки, на ноги натянули измочаленные валенки, а на голову нахлобучили шапку-ушанку. Начальник лагеря сперва никак не соглашался отправить заключённого в центральную магаданскую больницу, считал это едва ли не личным оскорблением. А когда понял, что сделать ничего не может, распорядился везти его в открытом кузове – все пятьсот километров. Приказание было исполнено в точности. Фельдшер был рад и этому: всё же это было лучше, чем оставлять умирающего заключённого на прииске. К тому же пузатый начальник никогда не ездил по колымским просторам в кузове грузовика. Он не знал, что когда машину сильно трясёт (а на Колымской трассе её трясёт всегда), то едущему в кузове пассажиру никакой мороз не страшен. Удары и толчки согревают тело лучше всякой грелки, не дают ему застыть и превратиться в лёд. Это наблюдение подтверждено множеством свидетельств, тысячью рассказов! Убедился в этой истине и Пётр Поликарпович; он проехал в кузове полуторатонки от Хатыннаха почти до самого Магадана. А это пятьсот пятьдесят километров постоянно петляющей трассы. Двое суток в пути со множеством остановок – в Ягодном, Дебине, на Спорном, в Оротукане, на Стрелке, на Атке и в Палатке. Если бы не тряска и не ухабы, то в центральную колымскую больницу привезли бы закоченевший труп. Составили бы акт, прокололи грудь штыком, прикрепили к большому пальцу правой ноги бирку и бросили в мёрзлую яму к другим доходягам и фитилям. Одним больше, одним меньше – какая, собственно, разница?.. Но Пётр Поликарпович не замёрз (несмотря на сорокаградусный мороз). Когда грузовик спустился с Яблонового перевала, заметно потеплело, а в Палатке было уже совсем хорошо – каких-нибудь минус десять. С мутного неба сеялись крупные белые пушинки, и вся местность была укутана толстым снежным одеялом.
Упрямый фельдшер добился своего – его подопечный попал в благословенную больницу, где были настоящие доктора и хорошо обученный персонал, где делали любые операции и ставили на ноги мертвецов. В эту больницу мечтали попасть даже вольные, они усиленно хлопотали об открытии для них двух палат при хирургическом отделении (и в конце концов добились своего).
Знаменитая на всю Колыму «инвалидка» располагалась в приболоченной безлесной низине в шести километрах от центральной Колымской трассы и в двадцати километрах от той магаданской транзитки, которую Пётр Поликарпович покинул каких-нибудь два месяца назад. Главный больничный корпус располагался в огромном четырёхэтажном здании на тысячу коек. Здание не отличалось архитектурными изысками – это был громадный параллелепипед грязно-серого цвета с геометрически ровными рядами зарешеченных окон по всем четырём этажам. В пятидесяти метрах, параллельно ему, расположилось ещё одно каменное здание – о двух этажах и вдвое короче; за ним – третье, ещё ниже, а далее были разбросаны там и сям строения самого разного калибра и пошиба. Это был настоящий посёлок со своей котельной, хлебопекарней, с подсобными производствами и жильём для охраны и для вольных. В то же время это был самый настоящий лагерь, огороженный колючей проволокой и обставленный вышками с часовыми. На территории больницы действовали точно такие законы, как и во всех лагерях УСВИТЛа.
Медперсонал больницы состоял в основном из заключённых, обученных в этой же больнице на ускоренных фельдшерских курсах, на которые мечтали попасть все зэки Колымы, от последнего доходяги и до каптёра и мордатого повара, ибо никакая другая должность не давала заключённому столько привилегий и власти. Но матёрых уголовников и блатарей в медицину не брали по причине их дремучего невежества и полной непригодности к лечебному делу (да и к любому другому делу тоже). Фельдшерами становились, как правило, люди образованные и сострадательные, тут действовал тот же закон, что и во всём подлунном мире, когда всё наносное и случайное безжалостно вымывается и выдувается мощными потоками Жизни, а всё ценное и единственно верное – остаётся и становится частью общего организма, обеспечивая порядок и требуемый результат. Командовали больницей чины из НКВД. Главный врач хотя и был из вольных, но состоял на военной службе и получал двойную зарплату за свои труды. Во всём остальном это была обычная больница, где лечились те же болезни, что и везде, использовались общепринятые методы излечения недугов. Человек везде одинаков. На всех материках и во все эпохи – у него одна и та же красная кровь со множеством эритроцитов, те же самые кости и одинаковый набор мышц и нервных волокон. Он одинаково чувствует боль и противится смерти, даже когда смерть для него – благо.