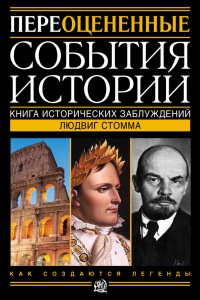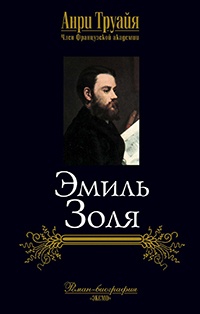Книга Эмиль Гилельс. За гранью мифа - Григорий Гордон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Нет, я лучше дам Вам другую, где Первый и Второй — на одной пластинке.
Долго искал ее, наконец нашел.
Все, что я держал в руках, было у нас тогда неизвестно (впоследствии некоторые из этих записей переизданы фирмой «Мелодия»), Вот полный перечень:
«Гилельс в Моцартеуме»
«Гилельс в Карнеги-холле» (2 пластинки)
Чайковский — Концерт № 1 (дирижер Ф. Рейнер)
Брамс — Квартет соль минор ор. 25 (Амадеус-квартет)
Шуберт — Соната Ре мажор
Шуман — «Ночные пьесы»; Шуберт — «Музыкальные моменты»
Сен-Санс — Концерт № 2 (дирижер А. Клюитенс)
Моцарт — Соната B-dur (№ 16)
Бетховен — Концерты № 1, 2 (дирижер А. Вандерноот).
Бетховен — Концерт № 4 (дирижер Л. Людвиг)
Бетховен — Концерт № 5 (дирижер Л. Людвиг)
Бетховен — Концерт № 5 (дирижер Дж. Сэлл)
Если иметь в виду, что каждая новая его пластинка — не так уж часто они выходили — была для меня (говорю только о себе!) первостепенным событием, то нетрудно догадаться, что я чувствовал, став в один вечер обладателем такого богатства!
Кроме того, была и «чужая» запись: Клаудио Аббадо с Бостонским оркестром — «Ромео и Джульетта» Чайковского и «Поэма экстаза» Скрябина.
Чем я заслужил все это?
Я немного «оправдался», сказав, что несколько дней назад у меня был день рождения.
— Ну вот, очень кстати, — обрадовался он.
Было уже поздно и пора уходить; вот и закончился тот день, который навсегда останется для меня «в настоящем времени», — 19 февраля 1972 года…
Шло время. Все было по-прежнему: на всех его концертах мы виделись за кулисами; обменивались поздравлениями к Новому году (я всегда поздравлял его и с днем рождения); а его звонки, на радость мне, не «остывали»: судя по всему, они были для него некой передышкой в его многотрудной жизни. Чаще всего, это было рядом с его концертами — или до, или после. Разговоры не были короткими: о многом он говорил, о многом спрашивал, очень интересовался тем, что происходит в Институте, всегда узнавал о моих делах. О себе — никогда ни слова, — только отвечая на мои вопросы. Как-то до меня дошел слух, что он болел и долго лежал. Я спросил его, как он себя чувствует.
— Сейчас в норме, — неохотно ответил он и перевел разговор.
Но то, что происходило вокруг, что он видел, слышал, читал — обсуждал охотно; был скуп на слова, но его характеристики и оценки были убийственны по меткости и остроумию.
Сожалею: сказанное им не могу процитировать — люди еще живы, вряд ли им будет лестно это знать, да и ничто не предназначалось для передачи. Могу лишь сослаться — в качестве «доказательства» — на то, что попало в печать.
Есть два пианиста со схожими фамилиями — Кац и Катц.
Мария Гринберг, перечисляя в письме пианистов, слышанных ею на Всесоюзном конкурсе, пишет:
«Есть еще Катц, или, по выражению Гилельса, Кац в сапогах». Не надо объяснять: «Кац» — это кот, потому в сапогах.
Вера Горностаева вспоминает: Яков Флиер и Яков Зак не ладили между собой: «Гилельс, со свойственной ему манерой острить, сказал: „Повесть о том, как поссорился Яков Владимирович с Яковом Израилевичем…“»
Прибавлю к этому одну историю, о которой знаю наверняка. У Гилельса в консерватории был ассистент — Павел Месснер. Студенты между собой звали его, разумеется, Паша: так это и закрепилось за ним — Паша, Паша Месснер. А у Якова Флиера — в студенческой среде, понятно, просто Яша — ассистент Лев Власенко. Так вот, встретившись с Гилельсом в консерваторском коридоре, Флиер, посмеиваясь своей находке, беззлобно сострил: «У тебя ассистент Паша Эмильевич». (Кто не помнит «голубого воришку» — персонажа Ильфа и Петрова!). На что Гилельс мгновенно ответил: «А у тебя — Лев Яшин!»
Продолжу о нашем телефонном общении. Гилельс говорил с предельной откровенностью, я бы сказал — с бесстрашной прямотой; был строг к другим, но и себе не прощал ничего. У него были совершенно определенные взгляды на то, как человек должен относиться к своему делу; не выносил некомпетентности, и всевозможные ляпсусы портили ему настроение. В одной статье о нем было, например, сказано, что Восьмая соната Прокофьева, которую он исполнил первый, посвящена ему, в то время как Прокофьев посвятил ее своей жене.
— Как Вам это нравится, Гришенька, ведь это же халтура, — сказал он пренебрежительным тоном.
Много было подобных случаев…
Как-то раз он пожаловался, назвав имя одного музыковеда:
— Вы знаете, какие слухи он распространяет обо мне? — Что я записываю на манжетах гармонические последования в Третьем концерте Прокофьева, чтобы не забыть.
Это была, разумеется, очевидная нелепость, и я ему сказал, что ничего не поделаешь, приходится терпеть — это и есть слава. И он, как ребенок, сразу успокоился и заговорил о другом.
Его звонки бывали, так сказать, разного содержания; был, к примеру, такой.
Однажды получилось, что на оба объявленных рядом его концерта (абонементный и вне абонемента) я пошел один. Он заметил это. Позвонил: как поживает моя жена, здорова ли, и когда я объяснил, почему она не смогла быть, спросил:
— Но вы, — здесь он замялся, подыскивая слово, — вы… вместе?
Вот, оказывается, что он подумал! — и был очень доволен, что все в порядке.
В феврале 1975 года (для точности — 14-го числа) я играл свой очередной концерт в концертном зале Института (программа была такая: Соната G-dur Шуберта и два опуса Брамса — 118-й и 119-й). В антракте ко мне по традиции зашел мой близкий друг, Леонид Брумберг, вернее, на этот раз почему-то вбежал — непривычно бледный, явно не в себе; жена тоже была выбита из колеи.
«Что такое?! Ну, думаю, — наверное, здорово сегодня играю!»
— Давай, продолжай в том же духе, держись, — взволнованно проговорил он, — играй как следует!
Наконец, отыграл. В артистической один знакомый говорит:
— Ты знаешь, — был Гилельс!
Я принял это за остроту. Что тут скажешь?
— Если был, — отшучиваюсь, — пусть придет сюда.
В этот момент откинулась портьера — и вошел он!
Я онемел.
— Что же ты молчишь, — спасла положение моя первая учительница музыки, — скажи «спасибо».
Но я не мог сказать и этого.
Он подал руку:
— Очень хотела прийти Леночка, но она плохо себя почувствовала.
И все; повернулся и ушел.
Как мне потом рассказывали, его появление перед началом концерта подействовало на моих знакомых как шок. Заметив это (некоторых педагогов Института он знал), Гилельс объяснил:
«Я увидел афишу в городе, и меня заинтересовала программа».