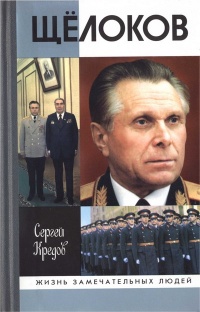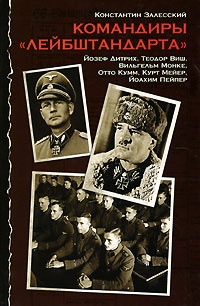Книга Виденное наяву - Семен Лунгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А может быть, стоит попробовать так?
…Рядовые контрамарочники раздеваются, как и все смертные, в зрительском гардеробе. Те, кто чуток поважнее, – в комнатке администратора, вешая пальто на вбитые в стену крючки или на гвоздики за занавеской, как в бане. Гости же заместителя директора – у него в кабинете – там рогатая вешалка из «Дяди Вани» – или перекидывают пальто свои через спинки кресел, бросая поверх, безо всяких церемоний, заграничные шарфы.
А самые-самые желанные гости, одарившие театр своим посещением, раздеваются даже не у заместителя, а в кабинете самого директора или в его комнате отдыха, ежели таковая имеется. При них дежурят несколько охранников, не из театра, конечно, а из органов, блюдущие самого раздорогого гостя, да еще какие-то служивые, привезшие с собой особые чемоданы со спецпитанием, сластями и фруктами исключительно для своих хозяев и раскидывающие скатерти-самобранки безо всяких церемоний прямо на столе директора театра, где, угнетенные толщенным стеклом, покоятся списки труппы и еще кое-какие основополагающие документы…
И волнения и страх охватывали театр сверху донизу. Я вспоминаю, как зав. гримерным цехом, предупрежденный, что кто-то, кажется, Ворошилов, будет на спектакле и может зайти за кулисы – сановные интересуются, а что там такое происходит и не ходят ли там полуодетые артисточки, – кинулся очертя голову к себе в гримерную, вспомнив, что пол давно не мели, но веника нигде не нашел и, остервенело матерясь, схватил свой пиджак, к слову сказать, трофейный, и принялся, поднимая клубы пыли, заметать им мусор в угол…
…Нет, все-таки я начну вот с чего…
Помню, как в студии Станиславского в должности замдиректора появился вдруг Александр Морисович Данкман – один из крупнейших воротил посленэповского зрелищного дела. Продержался он недолго, но у нас его никак не могли забыть и всегда поминали добрым словом, потому что все понимали, что администратора такого класса им уже никогда больше не увидеть.
Была в тридцатые годы организация, которая называлась ГОМЭЦ. Это, конечно, сокращение, которое расшифровывается так: Государственное Объединение Музыки, Эстрады и Цирка. Так вот, Данкман и был главой этого объединения. Все гастроли всех эстрадных артистов, музыкантов, циркачей, все отправки за кордон советских мастеров разных жанров и приглашение тамошних эстрадно-цирковых звезд происходили по решению Александра Морисовича. Работа его в ГОМЭЦе, которая принесла немалый доход государству, кончилась, естественно, тем, чем не могла не кончиться в те годы. Данкман был арестован как шпион и просидел в лагерях с десяток лет.
Круглолицый, невысокого роста, в безупречно сшитом костюме, Александр Морисович, что бы ни случилось, никогда не повышал голоса, говорил внятно и звучно, как коренной москвич, в обхождении был внимателен, со всеми любезен, приветлив и славился тем, что неукоснительно держал свое слово. Ну, мог ли такой хорошо воспитанный, учтивый господин, от которого пахло «Лориганом» Коти, настоящий барин во всех своих повадках, да еще с такой биографией – «враг народа», иначе не назовешь, – нравиться выдвиженцам из рабоче-крестьянской среды, которые к тому времени уже заняли почти все ответственные посты в сфере искусства? Их рекрутировали то из актерской братии – тех, кто побездарнее, тех, кто поусерднее ходил в начальствующие кабинеты, – то из технических цехов театра, того, кто там только мешал работе. И они, эти счастливчики, отныне облеченные властью, особенно тщательно блюли субординацию и авторитет своего нового положения. Можно ли себе представить, чтобы Станиславскому, Немировичу или, скажем, Сумбатову-Южину пришло бы в голову поручить руководство театром электрику средней квалификации, верховому с колосников либо артисту из разряда «сотрудников»? Но вот при советской власти эти выскочки дождались своего звездного часа. В их среде Данкман неизбежно был чужаком, и все его деловые успехи они воспринимали как личное оскорбление. А тут, как назло, театральное хозяйство было при нем в образцовом порядке, все цеха работали на редкость исправно, да и за кулисами пьющий люд выпивал корректно, а не злодейски, как теперь.
Александр Морисович никогда не куражился на начальственных увеселительных сборищах с гулом мата, лапаньем баб и непременным пеньем военных песен, не корешил с «власть имущими», ни с кем из них не переходил на «ты», как бы не замечая их «тыканья» и полной невозможности произнести его отчество – «Морисович». Они называли его не иначе, как «Ирисьич».
Из кабинета Данкмана, повторяю, никогда не раздавались гневные голоса, потому что ему не надо было криком добиваться выполнения своих приказов, как выдвиженцам на их новом поприще. Никогда не слышалось оттуда и конское ржание – значит, ни похабных анекдотов, ни пошлых сплетен никто там не рассказывал. «Как у Лександра Морисыча все чинно-благородно, – говорили наши старые театральные уборщицы. – Это вот – человек! Ни пакости никакой, ни пустой посуды, ни энтих гандомов мокрых в пепельницах, тьфу ты, прости Господи!..» А в театрах, что уборщицы говорят, то правда…
Одним словом, Данкман не пришелся, да и не мог прийтись ко двору советской власти. И не только, и даже не столько в силу своей социальной чуждости, сколько из-за того, что вел дело как хозяин, в старом понимании этого слова. Он брал на себя всю ответственность за каждое решение, знал все про всех и самовластно распоряжался всем и всеми, практически не советуясь с начальствующими лицами. Он честно, не жалея сил, работал на государство. Когда он руководил ГОМЭЦом, его гастролеры и сопровождающие их лица выполняли, конечно, все порученные им тайные задания Лубянки, но даже это не могло перевесить того, что сам он так и остался до конца внутренне независимым. Именно поэтому он был обречен. Он исчез так же внезапно, как и появился, безо всяких разъяснений и сплетен на сей счет…
…Вот видите, я так и не могу решить, с чего же мне начать этот рассказ, но зато точно знаю, чем его закончить.
Как-то я был назначен режиссером на пьесу (к слову сказать, это был «Опасный путь» Виктора Некрасова), ставить которую пожелал сам Б. И. Флягин, в то время начальник Московского управления культуры.
Однажды он вызвал меня к себе в присутствие. Дело шло к вечеру, управление опустело, и из сотрудников уже никого не было, кроме его секретарши, выжидавшей, должно быть, когда хозяин уйдет. Я объяснил ей, что Флягин велел мне прийти. Она снисходительно улыбнулась и сказала, что вот телефон, по которому я должен вызвать его машину, когда тому придет время. А главное, чтобы я не выпускал его одного на улицу. На это, мол, есть строжайший приказ.
– Чей? – почему-то спросил я.
– Мой, – ответила она без улыбки.
– Ладно, – сказал я.
И не успел я толком оглядеться, как секретарша исчезла, словно ее и не было совсем. Стало как-то неуютно…
Я подошел к двери кабинета. Это была хорошая дубовая дверь из дореволюционных времен. Я заставил себя тихонько, чтобы не скрипнуть, приоткрыть ее. За первой дверью была другая, обитая чем-то дорогостоящим. Я нажал на ручку… Здесь я бывал и раньше, на обсуждениях спектаклей. Если их разрешали играть, то составлялся перечень обязательных поправок…