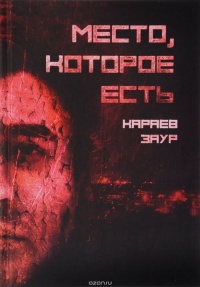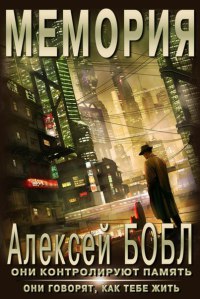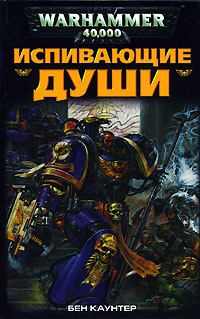Книга Возвращение с края ночи - Глеб Сердитый
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это оказалось заразительным, и Сашка тоже заморгал.
И вдруг чудище начало раздувать мешки позади головы. Они раздувались и раздувались, наливаясь краснотой.
Сейчас ка-а-к квакнет!
Один знакомец Воронкова посадил на даче цукини — кабачок такой, который надо зеленым есть в соленом или жареном виде. Так эти цукини у него переросли, начали угрожающе надуваться, круглеть и желтеть.
И вот этот парень со смехом рассказывал: «Есть на свете три самые страшные вещи. Это Хиросима, Нагасаки и цукини! Эти цукини сначала зеленые, потом раздуваются, желтеют, а когда покраснеют, рвутся как бомбы!» Это он так шутил. Но когда Воронков об этом вспомнил, глядя, как пузыри за щеками монстра становятся больше головы, ему было не до шуток.
Он четко осознал, что ТАКОГО квака «в упор» можно и не пережить. Воззвав о прощении ко всем «зеленым» всех миров и измерений, Сашка в порядке упреждающей самообороны выстрелил в пупырчатое чудище из «Мангуста».
Поначалу ему показалось, что его отбросило назад взрывной волной от лопнувшей супержабы. Потом почему-то подумалось, что его накрыли минометным огнем с проехавшего бронепоезда, ориентируясь на звук его выстрела. Потом ему стало не до этого.
Он нашел себя лежащим на спине, на чем-то вопиюще неудобном, похожем на батут, но растянутый до пола, на котором накиданы всякие угловатые предметы, впивающиеся сквозь ткань в тело.
Он был внутри воронки, застеленной чем-то светлым. Не белым, а именно светлым, неопределенного сероватого оттенка.
Края воронки он увидел, только присмотревшись — они сливались с фоном — были неровными, мягко и жестко одновременно, если такое вообще возможно.
И небо над ней — пасмурным, таким же светло-серым монотонным без разводов облачности. Будто крашеный купол.
Край воронки — неровный — ткань обтягивала что-то под ней, упруго, сглаживая очертания. Если только это была ткань.
«Мангуст» в руке. Другая рука по-прежнему удерживает пса, который не шевелится.
— Джой?
Слабый ответ, не вербализируемый. Ясно только то, что пес жив. Вроде и не ранен. Но поплохело ему конкретно.
Сашка чуть пошевелился и застонал.
Похоже, приземляясь, он здорово отшиб спину о то, что было под тканью, хотя батут и смягчил удар.
Может, потому и дышалось ему так натужно. Или это воздух такой? Плохой воздух.
Подумалось сразу, мельком, а что если вывалишься в мир, где воздуха нет вовсе? Но, видимо, это маловероятно.
Многострадальная куртка зацепилась за кроссовку и перекочевала в другой мир вместе с хозяином.
Под спиной будто бы находился исполинский пупырчатый валик музыкальной шкатулки, тот, что дергает за рычажки, которые приводят в движение молоточки, которые бьют по колокольчикам, которые…
И тупые, сглаженные тканью выступы пронзали, казалось, Сашку насквозь, проходя невидимыми зубьями сквозь его существо. То же ощущение, что и в момент перехода из мира в мир, только пролонгированное и усиленное.
Нет. Если это и была шкатулка, то не музыкальная. Даже вопиюще немузыкальная. Какофоническая скорее.
В ушах стоял тугой, немолчный стон. И стон этот приходил извне прямо в уши. Не объяснить как…
Он попытался сесть.
Это худо-бедно удалось, но в задницу теперь впивались выступы непонятного ЧТО-ТО с утроенной силой.
Избавиться от этого можно было только стоя.
Но почему-то Сашка понимал, что толку от этого тоже будет мало.
Да и стоять тоже было трудно, будто в гамаке. Зыбко.
Кряхтя он передвинул на бок впившийся в поясницу кортик.
Все тело отчаянно ломило, кровь стучала в висках, путая мысли.
Прикосновение одежды к коже сделалось неприятным и даже болезненным, как при ожоге. И тем не менее он надел куртку. Чтобы не нести.
Ткань…
Нет, не ткань это была и не резинка, и вообще непонятная субстанция.
Она предательски скользила, и, натыкаясь на очередной выступ чего-то снизу, Сашка чувствовал боль, сравнимую с электрошоком.
Он убрал пистолет.
— Что же это за место такое?
Джой косил глазом беспомощно.
Джою было плохо. Но в чем это выражалось для пса, Сашка мог только догадываться.
Стоя Вороненок смог выглянуть за пределы воронки.
И ничего путного не смог увидеть.
Кроме того, что все укрывала эта белая субстанция.
Она укрывала будто бы и небо.
Сначала показалось, что горизонт недалек.
Но это было не так.
Скорее, край куда большей, титанической воронки, на дне которой, в самом центре, в другой, крохотной воронке сидит он, Сашка Воронков.
Но тут же почудилось, что не край и не горизонт, а вовсе ничто. Вроде как все это пузырь.
И пузырь этот то ли колышется, то ли пульсирует. Сплющивается и надувается.
Или это в глазах мерцает?
Сашку замутило от звона в ушах и мерцания.
Он закрыл глаза, сдерживая тошноту.
Все равно это бестеневое пространство лишь обманывало и морочило.
А то, что он видит — могло быть только образом, родившимся в сознании.
Белый шелк и камни под ним.
Такой родился у Сашки образ. Неправильный по сути, но близкий к ощущениям по форме.
За неимением лучшего.
И камни словно рвутся сквозь саван, на котором извалявшийся в болоте Сашка не в силах был оставить ни единого пятнышка грязи, тщатся проткнуть неодолимо прочную ткань и достучаться до единственного гостя этого мира.
Руины.
Те самые, которые говорят…
Но эти не говорят.
Они вопиют об участии, о спасении через общение.
Они хотят поделиться своими тайнами, показать все свои трещинки, но саван неумолим: «Доктор сказал, в морг, значит, в морг».
Выступы неведомого НЕЧТО впивались в ступни через кроссовки, проникали внутрь, поднимались вверх по костям ног, создавая такой же эффект, какой создает бормашина, нащупавшая зубной нерв.
С трудом разрывая эти невидимые нити, проникающие в его существо, стаскивая ногу с незримых, но от того не менее болезненных всепроникающих игл, Сашка сделал шаг и застонал от бессильной ярости и боли.
Он снял ногу с одних игл для того, чтобы насадить ее на другие.
— Вставай, псина, — сквозь зубы сказал он и понял, что у верного Джоя недостанет ни воли, ни сил терпеть этот кошмар.
Пришлось взять пса, как дохлятину, и взвалить на шею, как носят баранов. Джой не пытался сопротивляться и вообще не подавал признаков жизни, кроме того, что косил испуганным глазом, вздрагивал, мелко дышал, высунув язык, да еще непрерывно транслировал, как ему здесь нехорошо. Но транслировал глухо и беспомощно.