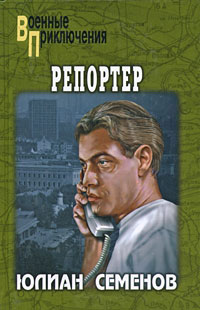Книга Экспансия-1 - Юлиан Семенов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он залез в зеленую воду и, запрокинув руки за голову, расслабился.
…Штирлицу — хотя правильнее сказать Исаеву, а, быть может, еще вернее Владимирову — повезло самим фактом рождения, тем, что он воспитывался в той среде, где значимость человека, его богатство и вес определялись уровнем знания, умением мыслить и степенью верности идее демократии, братства и равенства.
Как-то отец, друг и последователь Мартова, в Цюрихе еще, до возвращения в Россию (выехали следом за «Ильичами»), спросил Всеволода (никто тогда и представить себе не мог, что в двадцать первом он назовет Дзержинскому тот псевдоним, под которым проживет до двадцать седьмого, «Максим Максимович Исаев», а уж Менжинский утвердит «Штирлица»):
— Ты когда-нибудь задумывался над феноменом слова «энциклопедия»?
— Нет.
— А зря.
— Объясни, папа.
— Греки определяли его как справочное сочинение, содержащее в сокращении — обрати на это особое внимание — все человеческие знания. В сокращении… Почему? Потому что составить развернутую справку на все идеи, которые выдвинуло человечество, — невозможно. Отчего Французскую революцию связывают с Дидро, отцом энциклопедистов? Оттого что он был первым, кто обобщил опыт прожитых тысячелетий, сконцентрировав человеческие знания в некую библию от науки. Это был вулканический взрыв идей (спустя сорок лет после этого разговора, услыхав емкое «информационный взрыв», Штирлиц подумал, как близок был отец к этой формулировке). Двор Бурбонов не видел опасности в том, что книжные черви составляли свои карточки на философов, математиков и полководцев; они же не славили дерзость бунтовщиков и не цитировали отступников от веры?! Что может быть противоправительственного в кратком изложении концепций Аристотеля, Сократа, Эразма Роттердамского, Канта и Бэкона? Чем опасен Пифагор и Ньютон? Зачем страшиться изложения основ механики и химии? Пусть себе! Только бы не побуждали темную толпу к бунту. А они побуждали массы к знанию, что есть революция, а не бунт. Люди, прочитавшие энциклопедистов, поняли вдруг, что жизнь, которая им навязана, алогична по своей сути. Она была лишена того, что должно регулировать ее, то есть свода законов, именуемого конституцией. Она была полна традиционных, рожденных дедами еще и прадедами запретов, которые задерживали развитие, делали его тайным, уродливым, ползучим и, таким образом, — даже с точки зрения Библии — делали саму жизнь греховной. Кто хранит традиции запрета? Абсолютистская власть. Следовательно, она сдерживает развитие? Выходит, так. Но ведь это преступление или глупость — сдерживать развитие. Это противно здравому смыслу и выгодно единицам, стоящим во главе пирамиды, которые страшатся сделать даже малейший шаг к новому, переосмыслив то, что произошло в королевстве за столетия. Завтра нельзя править так, как сегодня, а сегодня правят не так, как вчера. Консервировать можно фрукты, но не форму правления. Значит, выходит, именно власть, как охранительница традиций, то есть прошлого, мешала тому, что росло, то есть новому? А разве долго можно мешать росту? Нельзя. И знание, распространенное в обществе его пророками, сиречь энциклопедистами, подняло народ на штурм Бастилии… А возьми нашу Родину… Когда Плеханов, Аксельрод, Ленин и Мартов начали создавать кружки и — на базе новейших достижений науки — доказывать рабочим, которых оболванивали традиционным, — «в ваших горестях, нищете, бесправии виноваты социалисты, жиды и „англичанка, которая гадит“, — что не эти мифические враги повинны в том, что Россия топчется на месте, уступив первенство Германии и Франции, но именно самодержцы, занятые лишь удержанием райской жизни в своих дворцах, — тогда случился девятьсот пятый год… Вот что такое энциклопедия… Я заметил это потому, сын, что ты плохо читаешь учебники по естественным дисциплинам… Я вижу, ты не очень-то жалуешь математику и биологию? Думаю, это происходит оттого, что ты бездумно идешь за гимназической программой, не позволяешь себе фантазировать и думаешь о балле в дневнике, но не замахиваешься на создание собственной жизненной концепции. Я не против собственности, когда речь идет о знаниях, Всеволод. Ты позволь себе замахнуться… Попробуй читать учебники не как сборники скучных догм, но как ту справочную литературу, которая позволит тебе создавать свой мир, выдвигая новую идею людской общности. Года через два тебе надо прочесть «Материализм и эмпириокритицизм» Ильича. Это — образец новой методологии мышления, когда политик и экономист препарирует вулканические извержения идей в физике, биологии, химии, делая их инструментом борьбы против рутины… Научись думать, когда читаешь, не соглашаться, видеть между строк, домысливать за автора, восхищаться словом, негодовать на туманный или корявый оборот! Поднимайся к равенству со строкой. Собеседуй с книгой, сын, — лишь с этого начинается прикосновение к тому прекрасному, что обозначается словом «равенство»…
Штирлиц часто вспоминал отца, когда садился за книги, справочники, подборки газет, журналы, документы из архивов, потому что именно благодаря ему научился растворяться в безмолвном собеседнике, следить за строкой, как за устной речью, фантазировать по поводу того, что чувствовал между строк, бесстрашно выдвигать свои предположения, вызванные прочитанным, отвергать их и думать о новых.
…Назавтра, насладившись чашкой кофе, приготовленного сеньором Анхелом, Штирлиц принялся за составление своей схемы мира за те месяцы, что он был лишен сколько-нибудь серьезной информации.
История — сложная наука; ведь даже то, что произошло минуту назад — уже история; какая поразительная спрессованность слов, идей, событий, имен, пересечений интересов! Как трудно вычленить из этого навеки замолчавшего звучания те контрапункты, которые определяли пик — не то что года или дня — минуты! Ведь именно в одну и ту же секунду в разных уголках мира думали, выступали, подписывали документы, сочиняли симфонию или завершали строй формул такие махины, как Ленин и Эдисон, Клемансо и Кюри, Ллойд-Джордж и Горький, Эйнштейн и Золя, Суриков и Гинденбург, Чаплин и Скрябин, Вильгельм II и Томас Манн, Джек Лондон и Анна Павлова, Витте и Шаляпин, Сунь Ятсен и Чижевский… А если позволить времени бездушным движением часовых стрелок вычеркнуть из самого себя новую череду дней и лет, то именами, определявшими одномоментность истории, следовало бы назвать Капицу и Нильса Бора, Рузвельта и Галину Уланову, Гитлера и Оппенгеймера, Черчилля и Рахманинова, Сталина и Фейхтвангера, Гиммлера и Эдит Пиаф, Пастернака и Пристли, Мао Цзедуна и Сальвадора Дали, Идена и Маресьева, Пикассо и Прокофьева, Эренбурга и де Голля, Королева и Хемингуэя, Курчатова и Сомерсета Моэма…
Поэтому, когда Штирлиц начал анализ исторических данностей с первого мая сорок пятого года, с того именно дня, когда он оказался исключенным из жизни, обрушенным в темноту и безмолвие на долгие восемь месяцев, ему стало ясно, что те связующие историю нити — сплошь и рядом незримые, но лишь угадываемые, — которые определяли развитие мира, уходили в те дни и месяцы, которые задолго предшествовали событиям сегодняшнего дня.
Одним из таких событий, повлиявшим на положение не только в Вашингтоне и Латинской Америке, но и здесь, за Пиренеями, оказалась конференция, состоявшаяся в феврале сорок пятого в Чапультепеке, неподалеку от мексиканской столицы.