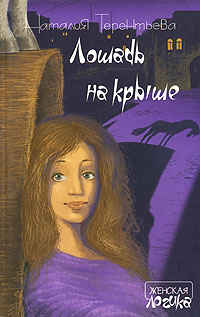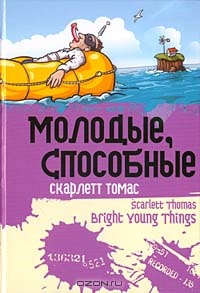Книга Замыкающий - Валентина Сидоренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Из стайки несся беспрерывный визг годовалого поросенка. Георгий быстро прошел в свинячий закут и отогнал хряка от поросенка к овечкам. Запирая овечью отгородку, подумал, что сегодня бы надо перегнать овец в теплицу, а хряка держать отдельно. Или уж выложить его, бугая, да под нож! Клавдии вздумалось хряка ро́стить. Вырастили на свою голову. Он как матку попробовал, так покоя не дает. На поросят громоздится. Жрать перестал, бьется о стены… А все Клавдия, супруга. Все ей мало животины. Нужна своя свиноферма. Топчется с утра до вечера и сама, и ему отдыха ни минуты. Ноги у нее уже – чугунки голимые. Едва таскает их и все стонет: ой, ноги, ой, ноги… А угомониться не хочет. Сколько раз ей темяшил:
– Кланьк, куда нам с тобою? Нам вдвоем с рынка кило сала взять, на всю зиму хватит.
Двоих боровков закололи – продали. Деньги в шкатулку. Сберкассе уже не доверяют после перестройки.
– Куда, говорил, копишь, Кланьк?
– Пашка придет, голым задом сверкать будет?
– Ты его че, в золото одеть собираешься?
– А ты зайди в магазин и глянь на цены! – вот и весь разговор. Еще и этого продадут. Да двух на зиму себе. И то ведь права баба! Куда ни кинь, во всем права. Внуку в Братск послать надо! Что там Любушка одна в городской квартире видит? Витька придет – дай! Сашке тоже дай. Толик прибежит – не откажешь – родня. И самим есть что-то надо. Мяско-то любят покушать. А на пенсию не разбежишься покупать. На свои руки да на подворье только и надежда. Вкалывай, покуда ноги носят и руки держат! Клавдия баба рабочая, цепкая, своего не упустит! Дом умеет держать. С нею не оголодаешь…
Вычистив свиной закуток, Георгий оттащил навоз в старой ванне за огород и, сваливая его в кучу, увидал Милку. Он уже забыл о ней, а она стояла неподалеку, на той стороне дороги, у остановки автобуса, и смотрела на него. Сразу заломило поясницу, и он ухватился за нее руками, с трудом разгибаясь. А когда поднялся, развел руками: дожил, мол… чего теперь… Старость не радость. Она поняла и вытянулась в струнку, поправив на голове парик: у кого, мол, старость, а я еще как огурчик… «Огурчик, огурчик, – подумал он, – проквашенный…» Он натянул потертую веревку и, ссутулясь, потащил ванную во двор.
В яслях стояли бычки-погодки. Старшего, пегого, этой зимой заколют. И бычок словно понимал, чуял близкую смерть. Он вышел во двор, чуть пошатываясь, озираясь. Утреннее сено втоптал в навоз. Георгий, подскребывая совковой лопатой половицы стайки, думал, что все бычки вели себя так же. Сколько их было за жизнь! Тоже ведь живая тварь! Жесток человек! Сволочной до подлости… Георгий всю жизнь со скотом! Скотная, как говаривала мать, жизнь. И точно: кто у кого раб, это еще разобраться надо. Всю жизнь из-под хвостов навоз выгребал, кормил, поил, ростил, ухаживал… На скотину-то больше трудов положил, чем на собственных деток… В коровнике мирно стояла мать большого бычка – крупная пятнистая Красуля. Старая корова, стародойка. Молоко жирнее сливок. Но все меньше дает его. Вот уже второй год как простая ходит. По морозам под нож пойдет. Тяжко с ней расставаться, да Клавдия держать не хочет яловую корову. В прошлую осень едва отбил Красулю от смерти, а в эту уж не удастся. Еще и у копыта рана загнила. Георгий выгнал из коровника корову Майку и молоденькую Марту и приступил к лечению. Красуля дергалась, нервно и шумно дышала. Георгий бритвочкой вскрыл гнойник и промывал рану. «Но, стой, дура старая… Может, еще поживем… Чем черт не шутит. Успеешь мясом стать… Не дергайся, говорю. Не молоденькая – брыкаться». Он промыл рану марганцовкой и смазал Клавдииной мазью. Потом завязал тряпицей. «Иди, гуляй». Выпущенный скот медленно потянулся в огород. Коровий навоз хозяин свозил в огород за теплицу в навозную яму. Перелопачивая вторую ванну навоза, он все же обернулся и увидел сквозь забор Милку. Автобус отошел от остановки, а она все стояла и глядела на него. «Вот бабье!» Георгий поежился. Красуля ковыляла под изгородью, и за нею вяло тянулся молодой бычок. Скот разошелся по серому оттаявшему огороду в поисках последней редкой травы. Георгий отогнал вилами от ямы овечку, подумывая – не загнать ли их в теплицу. Обернулся. Милка глядела на Байкал, потом вышла на дорогу и подняла руку. Белая иномарка с визгом остановилась перед ней. Шофер вышел из машины, открыл багажник, вкладывая в него баул пассажирки. Кокетливо изгибаясь, Милка нырнула в машину. Машина тронулась и быстро скрылась за тяжелым осенним горизонтом. Георгий тяжело вздохнул, перевернул ванну и сел на днище. Курил неспешно, глядя на мохнатую дымку Байкала, на дорогу, по которой уезжала Милка. Она всегда удалялась по ней. И никогда не возвращалась…
* * *
Людмилою она так и не назвалась за жизнь. Под пятьдесят прет, а все кошачьим «Милка» кличут. Она всегда походила на кошку. В изгибе, в потягиванье, в мурлыканье. Ах ты господи, в любви была, как солнышко. Сквозь кости проникало медовое ее словцо. «Соболек, – скажет, – Соболе-о-ок». Этим «Соболек» она, как веревочкой, вела его, куда хотела. Еще в школе встанет под дверью, шепнет: «Соболек…», и Гоха «линял» прямо с урока. Они рано скрутились. Он звал ее скороспелочкой. Хоть не набрала ни росту, ни бабьих особенностей, но из стайки своих сверстниц она выделялась сразу. Этой кошачьей грацией, пышными, пшеничными волосами, звончатостью, глазищами… Куда все девалося… Очарование, страсть, постоянная, как болезнь, деннонощная тяга к ней. Таскался за ее пятой, но стыдясь насмешек сверстников. Они уже хвастались победами, подробностями встреч, а он носил ей омуль с душком, который она ела ведрами, воровал у матери для нее деньги на сладости и девчоночьи глупости, которые умиляли его. Ждал ее часами возле клуба, следил издали…
Так уж получилось, судьба выпала такая. Две веревочки рядышком лежали, а не свились… Любила она первенствовать. Быть заводилой, в центре всех событий… Чтобы все глядели на нее, все слушали. На всех смотрах, концертах, олимпиадах – всегда первая… А он не любил скоромных глаз, крика, суеты… Любил быть с нею одной… Вечерком подойдет к низкой изгороди казаковского дома, встанет у осинового столбца и ждет. Первой выходила всегда Клавдия. Она уже считалась перестарком в селе. Долговязая, худосочная, она имела какой-то скудный, неубористый вид. Может, оттого, что родилась с пятном во всю щеку. Степанида, говорят, на сносях испугалась пожара и приложила ладонь к щеке. Так пятерня и отпечаталась на лице у Клавдии. С годами она стала совсем незаметной, но это сейчас, когда Клавдия входила в цвет, потом отгорела и лик ее сравнялся. А в молодости глаза иные, и все не туда норовят глянуть. Не диво, что молодой Гоха не сводил глаз с Милки. Милка выскакивала, упругая, как мячик:
– Заждался, Со-бо-лек?
– Было бы кого ждать! – Клавдия презрительно фыркала им вослед.
Она как чуяла бесполезность их любви. На него смотрела свысока. Все ее неказистое лицо морщилось в печеное яблоко.
«Достанется же кому-то», – весело думал он, глядя на скукоженный вид будущей, как он думал, свояченицы. Он собирался прожить с Милкой до глубокой старости, как жили его отец и мать, и Милкины родители, и все семейные пары Култука. И он, сжимая в объятиях свою «ласточку», радостно выпорхнувшую к нему из-под постного, докучливого крыла старшей сестры, в предчувствии долгого блаженства вовсе не подозревал, что вытворит с ними судьба, простая, как хлеб и лицо старухи-матери.