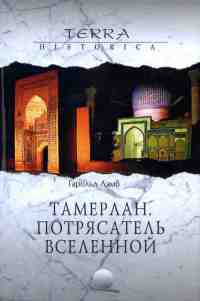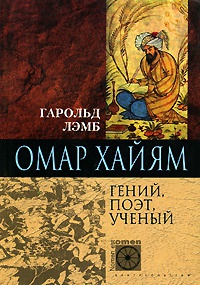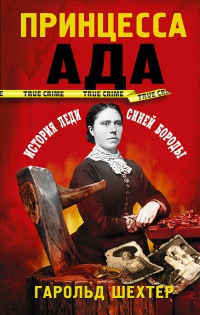Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Описанное мною в самых общих чертах выше есть пример лишения имени, весьма напоминающий притчу Урсулы Ле Гуин, в которой Ева отнимает имена у зверей. Дикинсон могла бы воспользоваться названием, которым воспользовалась Ле Гуин, — если бы Дикинсон когда-нибудь снизошла до использования названия: «Она отнимает у них имена». Будь моя воля, я бы использовал это название вместо «Полного собрания стихотворений Эмили Дикинсон». Она не прекращает отнимать у них имена, возвышенно и возмутительно отнимая имена даже у пустот. Эмерсон призывал поэта отнимать имена и давать новые. Уитмен предусмотрительно избегал давать и отнимать имена. Дикинсон было не слишком интересно переименование, поскольку оно следует за переосмыслением, которое так сродни лишению имени. Я так же мало заинтересован в том, чтобы превращать Дикинсон в Витгенштейна из Амхерста, как и в том, чтобы видеть в ней предшественницу Эдриен Рич и прочих бунтарей против патриархальных поэтических традиций. Изобретенную Дикинсон манеру очень трудно повторять, и она не слишком подействовала на лучших поэтесс этого века: Марианну Мур, Элизабет Бишоп, Мэй Свенсон. Более существенное влияние Дикинсон можно обнаружить у Харта Крейна и Уоллеса Стивенса, унаследовавших ее страсть к лишению имен, к отбрасыванию светил и определений[370], но не способных угнаться за ее прихотливым умом.
Покойный сэр Уильям Эмпсон имел в виду Харта Крейна, говоря, что в наше время поэзия сделалась опасной игрой, актом отчаяния с практически самоубийственными импликациями. За исключением Кафки, я не знаю ни одного писателя, который бы выражал отчаяние так мощно и так постоянно, как Дикинсон. Все мы чувствуем, что отчаяние Кафки имеет в первую очередь духовный характер; отчаяние Дикинсон кажется в первую очередь когнитивным. В ней было достаточно от Эмерсона, чтобы превозносить свои прихоти, и достаточно от Мильтона, чтобы стать самой себе сектой — в духе, хотя и не в манере Уильяма Блейка. Ее муки имеют характер интеллектуальный, а не религиозный, и все попытки читать ее как благочестивого поэта кончались крахом. Сущность под названием «Бог» проделывает в ее творчестве очень непростой путь и удостаивается куда меньшего уважения и понимания, чем соперничающая с нею сущность, которую Дикинсон называет «Смерть». В своей жизни Дикинсон влюблялась в одного-двух священников, а также в судью, но никогда не расходовала приязни на возлюбленного, который, по ее словам, был для нее слишком далек и слишком величав[371]. Поэт, который перед тем, как назвать Бога отцом, называет его грабителем и банкиром[372], настроен явно не на благочестие.
Литературная самобытность достигает у Дикинсон вопиющих масштабов, и главная ее составляющая — это то, как ее стихотворения продумываются. Она начинает, еще не начав, с подразумеваемого акта лишения имени, совершаемого в отношении мильтоново-кольриджево-эмерсоновой пустоты посредством скрытой шекспирианской подмены. Затем она раскрывает троп, восстанавливая его диахронию; она знает больше нашего о временной несостоятельности метафор. Тут ее кое-чему научил Эмерсон, но больше она узнала сама; Эмерсон не выказывал ничего, подобного ее подозрительности в отношении исторической тирании метафор поэтического бессмертия или духовного спасения. И, хотя она в достаточной степени романтик, чтобы искать «вечно-раннюю чистоту» (по выражению Стивенса)[373], ее представление о своем Белом Избрании[374]опять же содержит в себе подозрения насчет цены, которую приходится платить за возвращение к этому «раннему» состоянию. Если вы — главная поэтесса в истории Запада, то вы можете позволить себе чтить миссис Браунинг, которой никак не встать у вас на пути. Подобно Уитмену, Дикинсон — субъект опаснейшего из непосредственных влияний. Главные последователи Уитмена суть самые неявные: Элиот в «Бесплодной земле» и Стивенс. Аналогичным образом, самое продуктивное воздействие Дикинсон оказала на Элизабет Бишоп и Мэй Свенсон, которые постарались, чтобы их поэзия не походила на нее наружно. Ей самой была очевидно родственна поэзия Эмерсона, но непосредственными ее (как и его) предшественниками были английские романтики, а глубинные ее склонности были удивительно шекспировскими. Необозримое наследие мужской традиции было ей исключительно на руку, так как она состояла с этим космосом в уникальных отношениях. Литературоведы-феминисты, не умея или не желая понять, что борьба есть непреложный закон литературы, продолжают видеть в ней товарища, а не довольно опасную для них фигуру, которой она не может не быть.
Есть великие поэты, которых можно читать, когда ты обессилен или даже не в себе, потому что они утешают (в лучшем смысле этого слова). Вордсворт и Уитмен, безусловно, относятся к их числу. Дикинсон требует от читателя столь деятельного соучастия, что ему хорошо бы находиться в великолепной умственной форме. Всякий раз после того как я разбирал на занятиях ее стихи, у меня раскалывалась голова, поскольку их сложность вынуждала меня делать то, что свыше моих сил. Мой покойный учитель Уильям К. Уимсет получал мрачное удовольствие от моих рассказов о семинарах по Дикинсон: по его словам, я подтверждал свой статус памятника «Аффективной Ошибке» (как он это называл). Разумеется, Дикинсон представляет угрозу для всякого, кто считает, что возвышенное есть приглашение к тому, что когда-то называлось словом «порыв» (transport). Дикинсон испытывала коварную любовь к этому слову — как в форме существительного, так и в форме соответствующего глагола. Из ее рукописей мы знаем, что слова «ужас» и «восторг» она воспринимала как синонимы слова «порыв». Соединяя, таким образом, ужас с восторгом, она поначалу кажется скорее пережитком мироощущения, распространенного за столетие до нее, в эпоху Сентиментализма и Возвышенного. Но у нее «порыв» — это нечто совершенно иное, несущее в себе то самое небезразличное различие с Эмерсоновым прагматизмом, как в стихотворении номер под, сочиненном около 1867 года:
Над этими тридцатью семью словами в девяти строчках легко сломать голову, но я редко могу отделаться от переиначенных Энгусом Флетчером слов Шелли о Возвышенном: Возвышенное убеждает нас отказываться от простых удовольствий ради более сложных и болезненных. Фрейда, возможно, не обрадовала бы эта формулировка, предполагающая, кажется, увеличение того, что он назвал «заманивающей премией»[375], садомазохистскими средствами. Пять слов, на которых строится это короткое, сильное стихотворение, — это два «приноровляюсь» и триада из «Темноты», «порыва» и «Цели». Важнейший вопрос этого стихотворения — «Кто такие Темнота?», а не «Что такое Темнота?»; это различие я основываю на «ним» в «Я приноровляюсь к ним», где «к ним», кажется, предваряет «Темноту». У Дикинсон «Темнота», в отличие от «Мрака», иногда кажется тем, что мы с вами назвали бы «мертвыми».