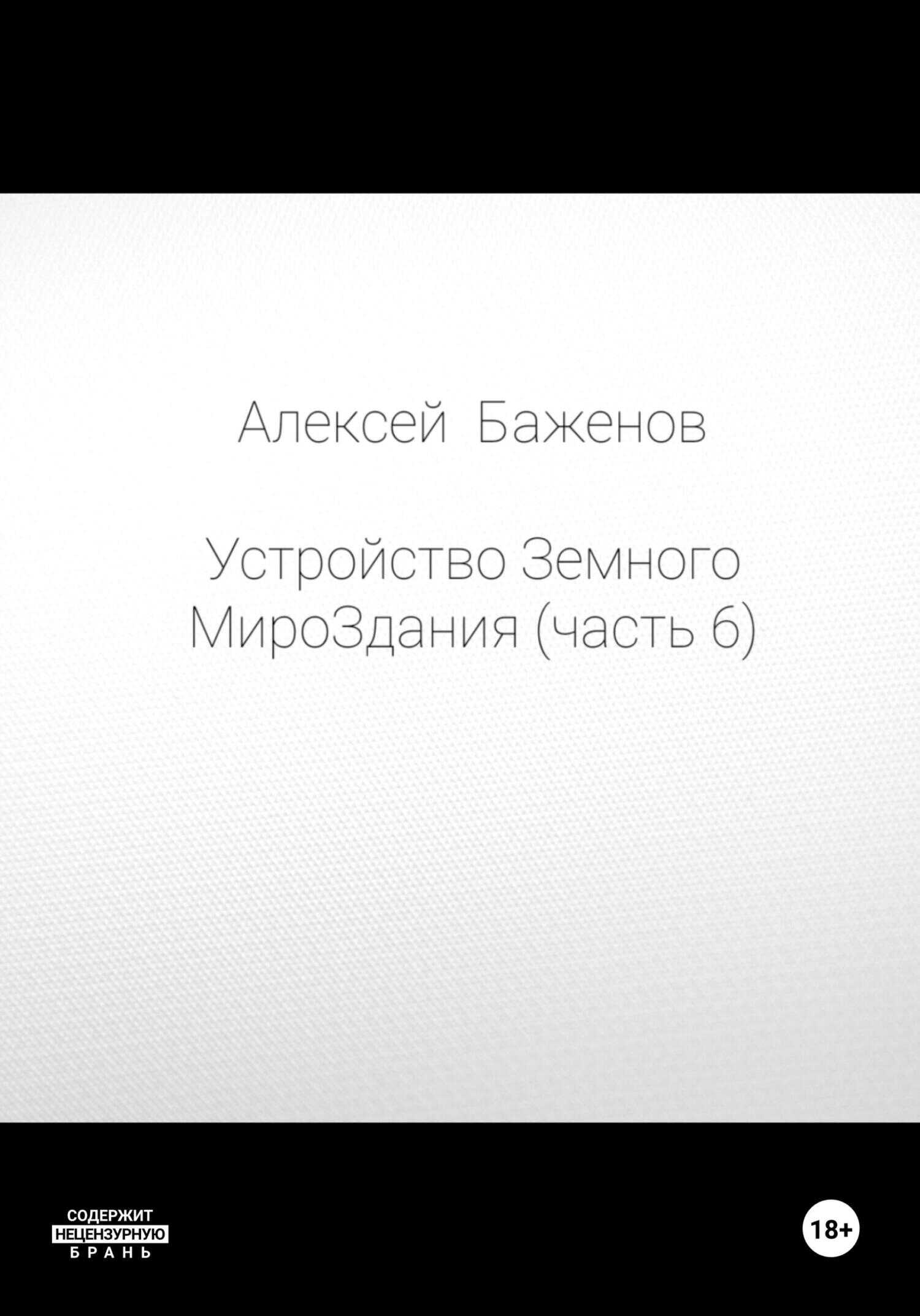Книга Бархатная кибитка - Павел Викторович Пепперштейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И он вошел в небольшую дверь, свежеокрашенную яркой зеленой краской. За этой зеленой дверью скрылись и тревожные юноши.
Между тем гардеробщик вернулся с пузырьком йода, ватой и пластырем. «Вас зовут Александр Михайлович?» – спросил я, когда он прижигал мне царапину. Ничего другого мне в голову не пришло, а молчание казалось обременительным.
– Да, – ответил он. – Ранка очень глубокая. Ну ничего, до свадьбы заживет.
– Я испортил вашу рубашку, – заметил я с сожалением.
Тут в комнату вошли еще несколько людей. Александр Михайлович повернулся ко мне спиной и быстро направился к ним, так что я даже не успел поблагодарить его.
«Бедняга, наверное, и не подозревает, что за собрание тут намечается», – подумал я и вошел в «залу».
Зеленая толстая дверь медленно закрылась за моей спиной. Я находился в просторном помещении без окон, освещенном одной длинной неоновой трубкой, пересекающей потолок по диагонали. У бетонной стены на стульях сидели тревожные юноши и, среди них, мой приятель. Золотую белочку он вертел в руках, рискуя уколоться и испытать те же неприятные ощущения, какие перед этим испытал я. У прочих такие же белочки-значки блестели на лацканах. Напротив, слегка наискосок, располагался черный диван, на котором сидели четыре девушки. Все они казались столь же молодыми, как и остальные присутствующие, то есть почти детьми, но странная угрюмость их лиц сообщала их облику нечто значительное. Все они были в черном, словно бы соблюдали траур по некоему ушедшему родственнику или духовному наставнику. Я заметил, что значками в виде белочек они не украсили себя. Если и обладали они такими значками, то предпочитали скрывать их от любопытных глаз. Помню, я почему-то подумал, что эти девушки – проститутки. Понятия не имею, откуда такая мысль могла появиться. Проституток я до этого видел только в кино, и выглядели они там совершенно иначе. Ничего фривольного, соблазняющего, вульгарного или кокетливого не присутствовало в этих девушках – строгая одежда, строгие лица, как бы слегка изможденные. Никаких украшений. Никакого макияжа на лицах. И все же… Они как-то странно прятали глаза, предпочитая смотреть либо в бетонный пол, либо на неоновую светящуюся трубку на потолке.
Больше я ничего не скажу о масонской ложе.
Глава сорок первая
Заходер
Клюква в сахаре, как я погляжу, сама собой выдвигается в главные герои данного романа. Уже вижу предвосхищающим взором какую-нибудь рецензию в Сети под названием, скажем: «Клюква в сахаре, или Воспоминания галлюцинирующего сладкоежки». Ну, это в случае более или менее благожелательной рецензии. А если менее благожелательная, то можно так: «Клюква в сахаре, или Кондитерская кислотность очередного младоконцептуалиста». Какая-нибудь Анна Наринская наверняка чего-нибудь такое напишет, если не поленится. Да уж, какие только про меня не писались рецензии и статьи, иногда под самыми остроумными названиями. Вспоминается, например, разоблачительная статья под названием «Хроники пикирующего халтурщика». Ну что ж, если я и халтурщик, то хотя бы пикирующий, – уже что-то. Давно мечтаю собрать все эти крайне разнообразные заметки, статьи и рецензии и издать их одной книгой. Мне кажется, очень интересная книга получится.
Но вернемся в детство. Впадаем в него поскорей, без сомнений! Ура! Тем более мы говорим об удвоенном детстве – The Double Childhood. Но об этом речь впереди.
Итак, мы беседуем о клюкве в сахаре. А раз так, то мне не удастся уклониться от воспоминания об одном из болезненных моментов моего счастливого детства, об эпизоде, связанном с ощущением острого стыда.
Мои добрые родители редко меня ругали и корили за что-либо. Но порою все же такое случалось, а поскольку случаи такие имели место не часто, поэтому все они (ну или многие из них) запомнились мне, и до сих пор испытываю я детский стыд за некоторые мои проделки или же проявления несдержанности. Именно такую вот вопиющую несдержанность допустил я как-то раз в гостях у Заходера, знаменитого детского поэта и переводчика. Мы сидели у него на даче за роскошно накрытым столом, и глаза мои углядели обширную вазу благородного гранатового стекла, целиком наполненную белоснежными шариками. В каком-то глубоком зомбизме я начал пожирать эти шарики и не смог остановиться, пока не уничтожил их все до единого. Причем содеялось это прямо на глазах у всех присутствующих за столом. Поведение, прямо скажем, не очень-то светское, явно из разряда дикарской необузданной жадности. К тому же ваза с шариками располагалась в некотором отдалении от меня, так что я каждый раз тянулся чуть ли не через весь стол за очередной горстью сахарных микроколобков. Огромный Заходер, мимо которого тянулась моя жадная рука, каждый раз комично провожал эту несветскую длань взглядом и строил ехидные гримаски. Меня никто не остановил. Точнее, родители пытались как-то остановить незаметно, пихали в бок или же толкали коленом, но я, зачарованный сочетанием кислого и сладкого, не замечал этих отрезвляющих знаков.
Все были (как говорили в девятнадцатом веке) фраппированы. От меня такого не ждали, обычно я вел себя вполне комильфошно и считался воспитанным мальчиком. Но тут вдруг на меня что-то нашло. Должно быть, слишком могучей оказалась магия белоснежных шариков.
Потом, когда мы ушли оттуда, родители меня мощно отругали, сказали, что я их опозорил. Пришлось мне расплатиться солеными слезами за сладко-кислое блаженство этой магической снеди.
Поведал я об этом эпизоде лишь в качестве риторического повода или введения в рассказ о самом Заходере, который, конечно, больше заслуживает вашего внимания, чем мои запутанные отношения с клюквой в сахаре.
В своем предшествующем автобиографическом романе «Эксгибиционист» я посвятил главу советским писателям – тем, с которыми я в детстве и в отрочестве общался или даже дружил в Коктебеле или же в Переделкино. Я бегло описал нашу шахматно-сказочную дружбу с Арсением Тарковским и приятельство с Анастасией Цветаевой, описал визиты на дачу к Валентину Катаеву, бегло описал также Мариэтту Шагинян и неудачные (для меня) теннисные поединки с Евгением Александровичем Евтушенко. Описал драматурга Ольшанского, Солоухина, Жору Балла, переводчика Дмитриева, а также поэта Андрея Вознесенского и его манеру носить в расстегнутом вороте рубашки шелковые шейные платки. Короче, постарался описать их всех так, как они мне запомнились, впрочем вышло как-то поверхностно и не слишком подробно, а ведь занятных персонажей в писательских домах творчества и в прилегающих к ним дачных поселках было гораздо больше, и, пожалуй, о каждом из них можно бы (да и следовало бы) рассказать разные удивительные истории, мне известные. Сочными фруктами, короче, были создатели советской брахманической литературы.
Но совершенно отдельно от вышеупомянутых браминов располагается окутанная как бы совершенно иной аурой и освещенная иным светом другая группа литераторов, не менее интересных и потрясающих. Речь идет о детских писателях. О тех писателях и поэтах, которым советская власть (ставшая, видимо, довольно беспечной ко временам моего детства) доверила ответственнейшее дело – воспитание и развлечение подрастающих будущих советских граждан. То есть советских детей, иначе говоря.
Справились со своей миссией эти писатели и поэты, с точки зрения советской власти, видимо, довольно хуево. Во всяком случае советские люди, возросшие на их текстах, вскоре перестали быть советскими. Провалили эти писаки, короче, важное задание партии и правительства, и некоторые из них сделали это не без умысла. Что, впрочем, не мешает им оставаться в памяти народной в виде любимых, замечательных, а иногда даже острогениальных авторов.
В романе «Эксгибиционист» я не уделил должного внимания этой категории писателей, а они того заслуживают. Поэтому в данном романоиде я постараюсь исправить свою оплошность и воздать должное тем детским писателям, с которыми я общался в те годы. А общался я со многими из них и знал их неплохо, что объясняется профессией моих родителей. Мои мама и папа вели двойную жизнь (так было принято в те времена): с одной стороны, они работали на советскую индустрию детства, с другой – были людьми московского андеграунда, концептуалистами, неподцензурными персонажами и в этом качестве вращались в целых анфиладах подпольных кружков и сообществ, притом что всегда оставался и играл определяющую роль их собственный (или лучше сказать – наш) круг – круг,