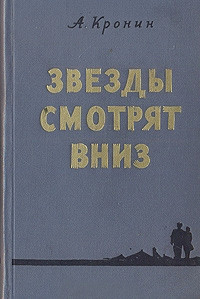Книга Отче наш - Владимир Федорович Рублев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Пошла ты! — взрывается Андрей. — Я с человеком могу спокойно поговорить? Или она не жена мне?
— Подумай сам, — поджимает губы Устинья Семеновна. — Перед кем она тебе — жена-то? Перед людьми? Вот то-то же… Перед богом-то ты ее постыдился назвать женой! Что уж дальше-то от тебя ей ждать?
— Мама! — нервничает Любаша. — К чему ты все это? — И, вздохнув, произносит: — Там видно дальше будет, Андрей.
— Ты хочешь остаться в этом аду? — с укором качает головой Андрей. — Ничего-то ты, видно, не поняла…
— Запел соловей, — усмехается Устинья Семеновна, но Андрей слушает только одну Любашу, а она тихо говорит, тяжело качнув головой:
— Нет, Андрей… Не надо сейчас об этом…
И сразу тихо в комнатах: Мать выходит следом за Андреем и стоит теперь где-то там, на крыльце. Хлопают ворота, вздрагивают оконные стекла — выходит на улицу Андрей. Шагает к окну Любаша, но ветер мельтешит ветками черемухи перед стеклом, и Андрея на дороге не видно. Теперь уже торопливо пробегает Любаша к другому окну. Андрей ставит чемодан на землю, поднимает воротник плаща и плотнее надвигает на голову фуражку. Ветер силен: видно, как остервенело рвет полы плаща.
Поднимает снова чемодан Андрей и идет по дороге, даже не оглядывается. И от этого вдруг больно сжимается сердце Любаши. Только сейчас ясно доходит до нее, что это — конец всему. И внезапно ее охватывает странное ощущение пустоты вокруг. Уходит он, а ты… Будет вечер — станешь беспокойно ловить каждый стук с улицы, ждать чего-то, избегая пронизывающего материнского взгляда… А там — пустая, холодная постель, когда твердо знаешь — это лишь первая ночь без него, а дальше?
Любаша идет от окна, тяжело опускается на койку, припадает к подушке, не в силах сдержать подступающих слез, но тут же вскакивает, устремляется к окошку. И вовремя: еще мгновение — и Андрей скрывается от взгляда за густым сплетением голых ветвей черемухи.
— Зачем же он… ушел? — шепчет Любаша, не сдерживая слез. — Я догоню тебя, Андрей, скажу, чтобы ты вернулся, мы уговорим маму! Правда, Андрей?
И лишь теперь до ее сознания доходит, что она должна сделать. Вернуть Андрея! Не надо, чтобы он ушел!
Любаша хватает шаль, торопливо повязывает ее, накидывает на плечи фуфайку, бросается из комнаты, но у двери сталкивается с матерью.
— Куда? — остро, настороженно смотрит Устинья Семеновна.
— Сейчас я, мама… Я быстро!
Любаша шагает к двери, но мать отталкивает ее:
— Не чуди, девка! Стыда в тебе нет, что ли? Все сделано правильно, с ним тебе не жить… Вздумаешь чудить — прокляну, как Иуду-христопродавца!
— Мама, — с плачем припадает к Устинье Семеновне Любаша. — Не могу я, тяжко мне… Зачем мне такое счастье выпало? Чем я прогневила господа, что мучает меня?
— Не ропщи, доченька, — останавливает мать, вздыхая. — Смирись и у господа ищи успокоения. Помолись ему, на сердце-то и полегчает. А там — забудется все, не тебе первой такое выпадает… За грехи тяжкие господь наказывает нас, и лишь послушание спасет тебя. Иди-ка помолись… Да отдохни потом немного…
Но успокоение не приходит. К вечеру, когда брызжет в окна густая синева сумерек, Любаша не может больше сидеть дома.
— Пойду я, за водой, что ли, — измучившись, говорит она матери. — Продует хоть голову…
— Ну, ну, — кивает та, стараясь быть с дочерью терпеливо ласковой. Знает, что грубостью да попреками в таких случаях ничего не добьешься, а человека озлобишь.
Любаша выходит за ворота. В темноте беснуется сырой, порывистый ветер, больно ударяет в глаза дождевыми каплями и снежной крупкой. Но боль радостна Любаше, отвлекает от тягостных раздумий. Она не отворачивает лицо от ветра, шагая к водоразборной колонке. Мягко, упруго продавливается под ногами подстылая, еще не затвердевшая грязь, похрустывает в сухих низинах снежная крупка. Легко идти подгоняемой ветром по такой земле, и снова вспыхивает в мыслях: Андрей… Он недавно шел по этой же дороге, может быть, по тем же самым земляным комьям слоистой колеи, и так же не отворачивал лицо от колючих порывов ветра… Нет, не верит Любаша, что он ушел навсегда: проплывет эта тягостная ночь, утром она пойдет на шахту и там увидит его. Издали, конечно…
У водоразборной колонки человек пять-шесть не более. Но вода льется тоненькой струйкой, и женщины терпеливо сносят хлесткие коловерти ветра. Вслед за Любашей к колонке подходит Татьяна Ивановна.
— За тобой, Любушка? — весело окликает она. — Куда это твой муженек-то в такую погоду направился с чемоданом? В командировку или на лечение куда посылают?
Жарко полыхает лицо Любаши, но разве заметишь это в сумерках и под ветром?
— Нет… Так он, — еле слышно произносит она, не найдя в себе смелости сообщить правду. Но Татьяна Ивановна и не допытывается. Она, заметив Аграфену Лыжину, громко спрашивает ее:
— Слушай-ка, Аграфена… Что это у тебя за страннички в последнее время вечерами собираются?
— Такие же люди, — доносится до Любаши подрагивающий голос Лушкиной матери. — Что они тебе, помешали?
— Ты хоть думай, кого пускать в дом-то, — говорит Татьяна Ивановна и оборачивается к соседке Валентине: — Всякий сброд, ей-богу, плетется туда.
Женщины с любопытством поглядывают да отвернувшуюся Аграфену.
— У них и тащить-то нечего, — тихо замечает Валентина. — Что на себе — это и богатство. И чего люди думают? Здоровые оба, дочь вымахала с версту. А, бес с ними! — машет она рукой. — Пусть живут, как знают.
— О них-то и заботы нет, — не отступает Татьяна Ивановна. — Да ребят-то жалко, тоже к секте приучают, бедных. Редко их теперь и на улице увидишь. Паразиты, а не люди, калечат детей-то…
И опять все невольно смотрят на Аграфену, склонившуюся у крана: подошла ее очередь. Странно многим женщинам знать, что их соседка сознательно отдает калечить своих детей чужим людям.
— Есть еще чудаки и недотепы на свете, — вздыхает Валентина. — Наделать-то ребят способны, а прокормить да воспитать — айда чужой дядя! Так, что ли, Аграфена?
— Глупые вы, — не сразу отзывается пасмурная Аграфена. Подхватив неполное ведро, прилаживает его на коромысло и шагает прочь от колонки.
— Уличный-то комитет чего у нас думает? — сердито говорит Валентина. — Собрались бы все да пробрали этих Лыжиных по-соседски! Дело-то до каждого из нас касается. Своих ребят заставят трястись — до наших доберутся.
— Правильно! — подхватывает Татьяна Ивановна. — Давайте, женщины, в исполком на уличном-то комитете просьбу составим, чтоб не устраивали на улице эти сектанты свои сборища… Все подпишемся! — она поглядывает зачем-то на Любашу. — Ну, не все — так бо́льшая часть.
Это уже явно адресуется Любаше, и ей неловко стоять среди женщин. «До всего им есть дело, — думает с неприязнью