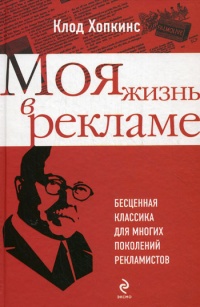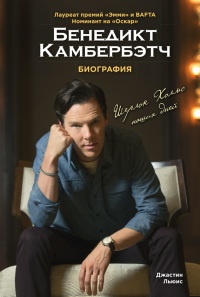Книга Быть Энтони Хопкинсом. Биография бунтаря - Майкл Каллен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Снятый за $4,6 000 000 (декорации в Шепертоне съели большую часть бюджета), «Чаринг Кросс Роуд, 84» сохранил успех Хопкинса, принеся ему награду как «Лучшему актеру» на Московском кинофестивале и, по словам Дэвида Джонса, восхищение таких звезд, как, например, Роберт Де Ниро, который после просмотра копии фильма восторгался, рассказывая всем и каждому о правдоподобности Хопкинса.
Отныне жизнь Хопкинса состояла на 24 часа, семь дней в неделю из актерских обязательств. Хэа говорит о его «бешеном круговороте работы», Денч об «уставших глазах». Но он мчался вперед. «Блант» («Blunt») был следующей работой, для «ВВС». Здесь он играл здорового, нетрадиционной ориентации Гая Бёрджесса в постановке Робина Чапмана о диверсионной деятельности Энтони Бланта. Восхищенные пьесой (доктор Рэймонд Эдвардс из Кардиффа нашел ее «оправданной» и «весьма искусной»), некоторые разглядели признаки усталости, проявившиеся в старом, знакомом, забытом маньеризме.
К середине лета 1986 года Хопкинс прочно осел в Лондоне. Он чаще виделся с Эбби, которая проявляла интерес к театру и, казалось, не поддавалась сомнениям отца, а он дал понять друзьям, что больше никогда не будет жить в Америке снова. Один друг актер говорит: «У него было все для счастья, но у Тони слишком сложная натура, слишком увлекающаяся самонаказанием, чтобы когда-нибудь быть счастливым. Он строит… а потом разрушает. Мы прозвали его „кризисным маньяком“. Он получал подпитку от изнеможения или несчастья. Он никогда не пребывал в стабильности, и хотя так он выглядел после „Правды“, на самом деле он никогда не усмирялся».
В январе 1985 года, возвращаясь к работе над «На пустынной дороге», Хопкинс сказал Майклу Оуэнсу из газеты «Evening Standard»: «Я всегда знал, что мне придется вернуться. Я провел ужасно много времени в бегах и теперь понимаю, что пришло время вернуться к реальной стороне жизни. Я жил в горах Калифорнии, где у меня была возможность все обдумать и прийти к ряду решений. Это все то же: либо ты растешь, либо терпишь крах». Последствия британского возрождения в «Правде», «Чаринг Кросс Роуде, 84» и остальных работах обратно швырнули эти ремарки ему в лицо. «Правда» и победа над «Национальным», над «системой» могли быть лишь пустым звуком. Жизнь продолжалась. Его тщеславие имело постоянную подпитку, прежние сомнения утихали, но после этого появились новые сомнения и очередной вакуум, который надо было чем-то заполнять. Хопкинс сказал Дэвиду Люину:
«Как-то вечером, вдруг, стоя на сцене, я подумал: „О чем вообще все это?“ Это было в середине контрактного срока „Правды“ и („Лир“ и „Антоний и Клеопатра“) были на подходе, и у меня просто появилось ощущение, что я теряю время. Я запаниковал и сказал себе: „Я не могу вариться в актерской жизни в театре. Здесь коллективная и семейная атмосфера, которая на самом деле мне безразлична. Я никогда не воспринимал себя частью этого“. Но я заключил контракт, поэтому должен был остаться. Но я правда не знал, что мне делать дальше».
Ноющая боль носила хронический характер: неспособность отдаться «семейному» союзу. «Для меня это стало очевидным, – говорит Денч. – Он чувствовал неловкость в потребности близкого общения. Не как актер, а в социальном и личном плане. Тони был очень хорошим, но совсем не компанейским. Он так прямо мне и сказал: „Ненавижу командный дух“. Его видение жизни заключалось в своего рода постоянном одиночестве».
И снова Дженни поддержала и помогла ему, когда в офисе Хэа он принял предложение об участии в «Короле Лире», который станет первой за все время постановкой компании «Национального театра», охарактеризованной Чарльзом Лэмом как «несценичная пьеса». В конце лета 1986 года пара села на восточный экспресс Венеция – Симплон и отправилась в Италию с тем, чтобы недельку отдохнуть, в компании с Дэвидом и Полой Свифтами. После чего «батарейка», по-видимому, подзарядилась и началась действительно упорная работа.
На этот раз энергичный Хэа стиснул зубы. «Не щелкнуло у него. С самого первого дня „Правды“ он понял, как играть Лё Ру. А с „Лиром“ – нет. Это была проблема поиска. И неспособность все связать воедино глубоко расстраивала его и, думаю, даже временно свела его с ума».
Это был первый Шекспир Хэа, откровенно трудная пьеса в плане вокальных и физических требований, и, в общем, она расценивается как текст, который актеры и режиссеры выстраивали обычно после того, как сначала проработают комедии, потом трагедии, а потом уже то, что Джон Бартон, режиссер «Королевского шекспировского театра», рассматривал как «возможно, самую великую пьесу из написанных». Оливье, игравший роль на сцене в 1946 году и для телевидения в 1983-м, очертил течение процесса игры «Короля Лира». В трех с половиной часах драмы, в которой восьмидесятилетний Лир появляется в одиннадцати сценах разных драматических требований, все время продвигаясь к явному безумию, актеру нужно обладать чем-то большим, чем просто талантом. Оливье сказал: «Когда у тебя есть силы для роли – ты слишком молод, когда у тебя уже подходящий возраст – силы не те». Гилгуд также счел эту роль трудной и посоветовал будущим Лирам «обзавестись миниатюрной Корделией», ссылаясь на сюжет пьесы, когда актер-Лир должен нести тело дочери через всю сцену после напряженной вечерней работы.
Тем не менее Хэа не смущали трудности. Объявив себя «лиристом» в противовес любителям Гамлета, он поначалу вдохновлялся восхождением на свой Эверест.
«Не считая постановки Питера Брука 1962 года, я никогда не видел „Лира“ настолько глубоко раскрытого. Иногда работали на четверть из десяти, иногда на шесть десятых. Даже в постановке Брука, думаю, Скофилд выложился на восемь десятых. Но я был готов идти ва-банк с Тони».
Пока Хэа планировал масштабную переработку, ожидания – разумеется, в связи с «Национальным» – были самыми высокими. В последнее время «Короля Лира» ставили несколько раз, и у всех постановок был различный успех. Версия Эдриана Ноубла из «Королевского шекспировского театра» буквально связала Корделию и Безумца вместе в симбиотической борьбе не на жизнь, а на смерть; версия театра «Kick Theatre Company» Деборы Уорнер была послабее; парижский спектакль Ингмара Бергмана наделил пьесу высокой степени сексуальной и политической энергией.
«А моя версия была несентиментальной – о старости – и довольно прямолинейной. Многие Лиры содрогались и говорили дрожащим голосом, чтобы добиться нужного впечатления. Тони – нет. Он был воинственен, агрессивен, боевой и активный… но все равно это было не то. Он просто не вполне схватил образ. Частично все-таки это моя вина. Я так толком и не справился с первой частью пьесы. Он был фантастическим во втором акте, в Дувре, захваченный Майклом Брайантом в роли Глостера. Думаю, лучше это никогда бы не сыграли. Он был бесподобен во всех моментах нежности. Но все остальное время он размахивал руками, очень отчаянно, и я не могу представить более трагического зрелища, чем смотреть, как актер вроде Тони бродит безутешным по сцене и все ищет, ищет. Потому что он актер, который не может скрыть свою боль. Он не обладает этими трюками в отличие от британских актеров, которые, когда происходит какое-то несчастье, могут вполне казаться безразличными и скрыть все, выдавая иронию или какие-либо другие базовые приемы. Тони так не делает, не может. Если этого нет, то этого нет. Это сводило его с ума».