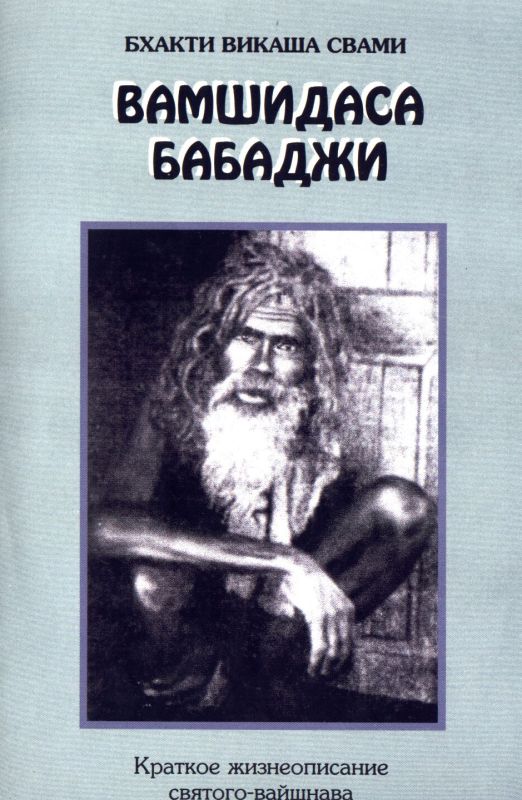Книга Прикосновение к человеку - Сергей Александрович Бондарин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вечером того же дня мама угощала меня и Наташу мороженым. Мы гуляли в сквере. Угощение не вызывало во мне обычного восторга. Униженное состояние матери отозвалось и в моем сердце.
Опасаясь уязвить ее еще более, я деликатно обсасывал ложечку, когда вдруг перед нами остановился отец.
Он держал палец на пухлой, толстой книжке; ветерок шевелил страницы. Другая его рука была спрятана за спиной.
— А! — произнесла мама изменившимся голосом. — Александр Петрович?.. Читаете при лунном свете?
Я увидел левую руку отца. Он держал хрустальный куб пресс-папье, точно державу. В следующее мгновение он должен был ударить мать этим предметом. Я готовился остановить его руку. Я метался за спиной отца, следуя его движениям, как воображаемая фалда фрака.
Но нет, отец не ударил. Он привлек меня к себе и спросил; что я теперь делаю, читаю ли и у кого бываю?
Маме он сказал:
— Погоди, Нила. Куда ты спешишь?
Он поставил на садовую скамейку хрустальный куб — и куб сверкнул всей своей массой — и положил ладонь на мою голову. И на этот раз снова я почувствовал беспокойное опустошение и горечь.
Отец пришел со стороны. Это было непривычно, этим был нарушен какой-то закон. Я не знал, как отнестись к этой внезапной близости. Между нами и отцом образовались препятствия. Я даже не знал: терпит ли такое положение вещей моего присутствия? Сын ли я?
Нужно было рассказать про Никиту Антоновича. Отец держал руку на моей голове. Я заплакал.
Мальчик плакал от растерянности перед зрелищем лжи и разрушения. Ему не хотелось становиться соучастником зла. Он был острижен под машинку, со ссадинами и царапинами на смуглых коленях и на лице.
Духовой оркестр исполнял вальс «Дунайские волны». Я помню музыку и шорох шагов по гравию. Отец, прижав меня к своему боку, утешал:
— Чего же это ты? Э-э, так не годится…
Мать сдерживала сестру, у которой уже подергивалась нижняя губка и глаза наливались слезами.
Из бульварного тараканьего шороха и тьмы приблизился к скамейке Никита Антонович. Он увидел маму.
— Я зашел к вам, Настя сказала, что вы гуляете, — проговорил он и тут же увидел отца.
— Да… Вот Андрюша что-то расклеился, — растерянно отвечала мать. — А вот и Александр Петрович!
— А я вас, Александр Петрович, и не узнал.
— Здравствуйте! — говорит папа.
Все остановились. Никита Антонович, перекладывая палку из одной руки в другую, хлопал по карманам, нащупывая спички. Но когда нашел их, он одновременно выдохнул из гильзы табак и, не понимая комичности положения, продолжал держать в зубах пустую гильзу, которая то вздувалась, то опадала, как игрушечная змейка; он снова захлопал руками, ища портсигар.
Отец вынул свой и предложил ему папиросу. Тогда, преодолевая спазмы, я воскликнул:
— Нет, папа, не давай ему! — и, сгребши горсть гравия, запустил им в Никиту Антоновича.
Мое движение, однако, не изменило мир к лучшему. Мне стало еще горше. К общему неблагополучию присоединился мой стыд. Мать увлекала меня из сквера, вокруг скамейки уже столпились гуляющие. Я жаждал спасения. Я судорожно мечтал о том, чтоб еще до выхода из сквера появился тигр, наделенный чувством справедливости. Он должен был восстановить нарушенное благополучие.
Упираясь, я замедлял приближение к калитке. За нами, всхлипывая, бежала Наташа. Отец и Никита Антонович остались в саду.
Для меня это происшествие закончилось тем, что мать прекратила всякое попечение о моем воспитании. Для борьбы за рост выдвинулась самостоятельность.
С силой прорывалось чувство обладания личностью и вместе с тем — участия в общем и большом мире.
Мне шел девятый год. Он шел на меня со всех сторон.
В то время как в нашей обезобразившейся кухне стояли корзины, еще полные пучков салата, редиса и щавеля, из зелени и кармина которых выглядывал глянцевитый брусок масла, голубоватая ладонь камбалы захлестывала поток серебряной камсы или свисала до полу выволоченная котом Гофманом вязь потрохов, — в этот уже полуденный час Настя, вопреки прежним обычаям дома, неторопливо собиралась растапливать плиту.
Среди неубранных подушек и простынь, посуды от утреннего чая, радуясь желтизне и писку теплого весеннего дня, я устраивался у, окна в палисадник, предвкушая наслаждение от книги.
Я любил повести о мальчиках и о героях. Читал Диккенса, Плутарха, Майн-Рида, морские рассказы Станюковича, «Ниву», «Задушевное слово», но и жалостная судьба Акакия Акакиевича или необычайный, жуткий смысл гоголевского «Портрета», так же как и повести Пушкина, вызывали во мне настроения, надолго изменявшие привычный строй моих чувств. Вдруг обнаруживалась могущественная деятельность среды на самых, казалось бы, безжизненных ее участках: многозначительно вздувалась занавеска, случайное расположение стульев вдруг приобретало особое значение, неосторожное обращение с вазоном грозило смертельной опасностью. Ослабевала сила моего зрения за счет возрастания стуков и шорохов, улавливаемых внезапно.
Мне, избранному из множества других таких же неутомимых мальчиков, вручалось право вмешательства в судьбы людей. С улыбкой встречал свои испытания маленький Оливер Твист, после того как, улучив минуту, шепнул я ему о том, что не забыт он моим расположением.
И вот тогда, в часы моего детства, на озаренном подоконнике, я принимал долю ответа за добро и зло, за мудрость или глупость, бессмысленность и справедливость человеческого поведения. В многосторонних характерах и судьбах я находил стороны, в которых, как в отражении оконного стекла, узнавал собственные очертания и смутно понимал, что каждая из этих судеб могла быть моей судьбою, каждый из этих характеров имеет свойства, подобные моим.
И я не должен был уступать ни мудрым, ни могущественным. Я должен был оправдать свое появление, прославить семью, нацию, отечество, великодушно успокоить маму, когда с немой просьбой о прощении она встретит меня, вернувшегося героя.
Я был обманут. Доверчивость влекла меня в руки, которые, овладев мною, причинили мне страдания. Показан строй семьи и внушено доверие, когда вдруг оказалось, что все это — обман и мистификация, обман, требующий возмездия.
И если, предоставленный воображению, наедине с самим собою я старался скопировать жизнь маленького оборвыша из повести Гринвуда, повторить ее в столкновениях с Настей, мамой или сестрой, найти в уличных встречах с извозчиками или торговками тождественность с опасными встречами Смитфильда — лондонского оборвыша, — как только я оказывался среди дворовых детей, моей судьбою становилась судьба полководцев. Образцом служил для меня Суворов. Но его характер был лишен необходимого величия. Он не был спасителем отечества, оставаясь лишь непревзойденным стратегом и чудаком — любимцем войск. Пример величия я видел в Дмитрии Донском.
Глава седьмая
У меня был