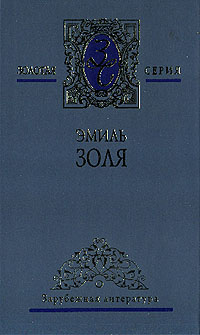Книга Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Книга 2 - Чарльз Диккенс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Вам нужно поговорить, мой друг, и лучше это сделать наедине, – заметила бабушка.
– Я просил бы вас, сударыня, будьте добры, останьтесь, если только моя трескотня вас не утомляет, – сказал мистер Пегготи.
– Вы хотите? Ну что ж, пусть будет так, – кратко, но доброжелательно сказала бабушка.
Опираясь на руку мистера Пегготи, она направилась к маленькой беседке в глубине сада, где уселась на скамью, а я сел подле нее. Было место и для мистера Пегготи, но он остался стоять, опираясь рукой на маленький дощатый столик. Прежде чем заговорить, он некоторое время стоял неподвижно и глядел на свою шапку, а я невольно обратил внимание на то, как ясно эта мускулистая рука выражает силу и непреклонность его характера и как хорошо подходит она к его открытому лбу и волосам с проседью.
– Вчера вечером я привел свое дитя, – начал мистер Пегготи, устремив на нас взор, – к себе в дом, где я приготовил все для ее прихода и где долго-долго ждал ее. Прошло несколько часов, прежде чем она меня поняла правильно. А когда поняла, она опустилась на колени у моих ног и рассказала мне, как на молитве, обо всем, что было. Можете мне поверить, когда я слышал ее голос – какой он был веселый когда-то! – и увидел, какая она несчастная, словно повержена в прах, на землю, на которой некогда наш спаситель писал благословенным своим перстом, я почувствовал, что сердце мое разрывается, хотя оно было полно благодарности.
Он вытер рукавом лицо, даже не пытаясь скрыть, почему это делает; потом откашлялся.
– Но это продолжалось недолго. Ведь я нашел ее! Как только я об этом вспоминал, все проходило. Право, не знаю, почему мне вздумалось теперь говорить об этом. Минуту назад у меня и в мыслях не было говорить о себе хоть бы слово… Но так уж у меня это вышло само-собой, я ничего поделать не мог.
– Душа у вас благородная, и придет день, когда вам воздается сторицей, – сказала бабушка.
Тень от листьев падала на лицо мистера Пегготи. Он с легким смущением поклонился бабушке, благодаря ее на добром слове. Потом поднял оброненную нить рассказа и продолжал:
– Когда моей Эмли удалось бежать, – на мгновение в голосе его послышалась ярость, – из дома, где ее запер этот гнусный гад, которого видел мистер Дэви, – так оно и в самом деле было, как он рассказывал, да будет он проклят!.. – Так вот… когда Эмли удалось бежать, была ночь… Ночь была темная, но на небе сияли звезды. Она была как безумная. Бежала по берегу, и ей казалось, что там стоит наш старый баркас, и она кричала нам, чтобы мы отвернулись, потому что это она пробегает мимо… Она слышала свой голос, словно кричал кто-то другой. И она поранила себе ноги об острые камни, но ничего не чувствовала, как будто сама была каменная. Она бежала, и перед глазами у нее все пылало, а в ушах был грохот. И вдруг, понимаете, так ей показалось, наступил день, сырой, ветреный день… Она лежала на берегу, на куче камней, и слышала, как неизвестная женщина говорит с ней на тамошнем языке и спрашивает, какая беда с ней стряслась.
Он видел воочию все, о чем рассказывал. Перед ним проходили эти картины так живо, что в страстном волнении он описывал мельчайшие детали с поразительной точностью. И теперь, спустя долгое время, вспоминая об этом, я лишь с трудом могу поверить, что не видел все эти сцены воочию. Они произвели на меня удивительное впечатление своим правдоподобием.
– Когда Эмли разглядела эту женщину, – а сперва все было перед ней как в тумане, – продолжал мистер Пегготи, – оказалось, что это была ее знакомая; с ней Эмли часто разговаривала на берегу. Хотя, как я вам уже сказал, Эмли убежала в ту ночь очень далеко, но прежде она много путешествовала, и пешком и в лодке, и знала всю округу на много миль вдоль берега. Женщина недавно вышла замуж, детей у нее еще не было, но она ждала ребенка. И я молю бога, пусть этот ребенок будет ей утешением и гордостью ее жизни! Пусть он любит ее, пусть не изменяет своему долгу перед ней в старости ее, пусть будет помощью ей до последнего ее вздоха, ее ангелом в этой жизни и в жизни будущей!
– Аминь! – сказала бабушка.
– Поначалу, бывало, она смущалась и держалась в сторонке со своей прялкой или с какой другой работой, покуда Эмли разговаривала с детьми. Но Эмли заметила ее, подошла как-то к ней и сказала несколько слов. Молодая женщина тоже любила детей, и скоро они стали с Эмли друзьями. Как только Эмли появлялась там, женщина всегда дарила ей цветы. И вот теперь она-то и спросила, какая стряслась беда. Эмли рассказала ей, и та повела ее к себе домой. Да, она так и поступила… Она повела ее к себе домой, – сказал мистер Пегготи и закрыл руками лицо.
С того дня, как она бежала из дому, я никогда не видел, чтобы его что-нибудь потрясло так, как потряс этот добрый поступок. Мы с бабушкой не нарушали его молчания.
– Домик был маленький, как вы сами понимаете, – наконец продолжал он. – Но там нашлось местечко для Эмли – муж этой женщины ушел в море, – и она спрятала Эмли и уговорила соседей (их было мало поблизости) помалкивать об этом. С Эмли сделалась горячка, и тут уж я ничего не понимаю – может быть, поймут люди ученые, – но Эмли позабыла тамошний язык и могла говорить только на своем, который никто не знал. Помнится ей, словно это привиделось ей когда-то: она там лежит и говорит на своем языке, а старый баркас находится за ближайшим мысом, в заливе, и она умоляет их послать кого-нибудь туда и сказать, что она умирает, и принести назад слово прощения, только одно-единственное слово… И почти все время, ей казалось, она видит, что за окном прячется человек, о котором я говорил, или в комнате находится тот, кто довел ее до всего этого… И она кричит этой доброй молодой женщине, чтобы та ее не выдавала, но вместе с этим помнит, что никто не понимает ее, и дрожит от ужаса, что ее увезут. И все время перед глазами у нее пылает огонь, а в ушах стоит грохот, и для нее нет ни вчера, ни сегодня, ни завтра, а в голове толпится все, что было в ее жизни или могло быть, и все, чего не было в жизни и не могло быть… Все кругом мрачно и неприветливо, а она поет и смеется! Не знаю, долго ли это продолжалось, но в конце концов наступил сон, куда более глубокий, чем обычно, и она стала совсем слабой, как дитя малое.
Он умолк, словно для того, чтобы немного опомниться от тех ужасов, которые описывал. Некоторое время он молчал, а затем продолжал:
– Когда она пробудилась, было прекрасное утро, и до нее доносился только тихий шум морского прибоя. Сначала ей показалось, что она дома, а теперь воскресное утро. Но за окном она увидела виноградные листья, а подальше – холмы, и было непохоже, что она дома. Тут вошла ее приятельница, чтобы посидеть у ее постели, и тогда-то она узнала, что старого баркаса нет у ближайшего мыса в заливе и лежит он далеко-далеко. Тогда-то она узнала, где находится и почему. И стала рыдать на груди этой доброй женщины – там, где, я надеюсь, лежит теперь ребеночек и глядит на эту женщину своими хорошенькими глазками!
Без слез он не мог говорить об этой доброй женщине, приятельнице Эмили. Он даже и не пытался. Призвав на нее благословение свыше, он снова продолжал:
– От этого моей Эмли стало легче, – сказал он с таким чувством, что оно и меня взволновало, а бабушка – так та плакала от всего сердца. – От этого моей Эмли стало легче, и она начала успокаиваться. Но тамошний язык она начисто забыла и должна была объясняться знаками. Так-то она и стала жить; понемногу, день ото дня ей становилось лучше, она поправлялась медленно и мало-помалу училась самым простым словам на тамошнем языке – ей казалось, будто никогда в жизни она их не знала. И вот как-то вечерком она сидела у своего окна и глядела на маленькую девочку, которая играла на берегу. Вдруг эта девочка протягивает к ней ручку и говорит… Если сказать по-нашему, она говорит: «А у меня ракушка, дочка рыбака!» Дело в том, видите ли, что раньше, по обычаю той страны, Эмли называли «прекрасная леди», но она просила называть ее «дочка рыбака». Так, значит, девочка и говорит: «А у меня ракушка, дочка рыбака!» И вдруг Эмли поняла эти слова! Залилась слезами и ответила на тамошнем языке. И сразу все вспомнила!