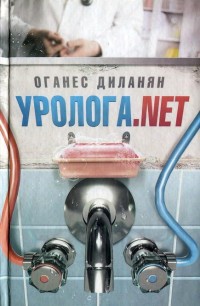Книга Давайте, девочки - Евгений Будинас
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сиреневый туман над нами проплывает,
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, охранник понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда…
Ну а что до анекдотов, считалок, присказок, афоризмов и правил, ходивших во дворах наряду со страшилками об оживших покойниках, то, чем старше и многоопытнее становился Рыжюкас, тем больше он ими проникался, завидуя глубине и точности дворовых формул, в которых за прямотой и грубостью всегда обнаруживалась житейская мудрость. И, став писателем, тайно мечтал хотя бы однажды что-нибудь изложить так же просто и вразумительно, как в десятке строк той детской считалки. «Одиножды один, вышел один, одиножды два – вышла одна, одиножды три – в комнату зашли, одиножды четыре – свет погасили, одиножды пять – легли на кровать, одиножды шесть… одиножды десять – ребенку уж месяц»…
13
И драки, и любовь, ладно. Эту азбуку юный Рыжук потихоньку осваивал.
Сложнее было с другим. Очень долго Гене не мог понять, что вообще происходит, почему так странно поделен дворовый мир. И почему так чудовищны и несправедливы его соприкосновения с миром внешним.
Прямыми и жесткими были пацаны. Но еще более жесткими, нет, жестокими оказались правила, по которым внешний мир принял эту безотцовщину, голытьбу, еще сопляками да карапузами предоставленную себе. Этих пацанов, оставшихся наедине – сначала с войной, потом с тем временем, которое в учебниках истории назовут восстановительным периодом.
Неотвратимо оказываясь на крашеной темно-коричневым маслом лавке (она называлась скамья подсудимых) в большой комнате одноэтажного здания народного суда, расположенного у базара, они почему-то не оправдывались.
Именно это удивило Рыжука, когда он был однажды приведен в суд, «пока еще», как пообещал ему конвоир, в качестве свидетеля по делу о разбойном нападении пацанов на склады овощной базы неподалеку от его дома.
Но вот и прокуроры с покрасневшими от тревог и бессонных ночей глазами, и судьи почему-то не захотели найти им оправданий. Ну что-нибудь такое в примечаниях к статьям о краже со взломом или поножовщине – о скидках на отца, который так некстати высунулся из окопа, на дом, вместо которого осталась только воронка, на постоянный голод, на другие «смягчающие» обстоятельства.
Клепали им сроки народные судьи, не больно терзаясь нелепостью осуждать этих отчаянных голодранцев, уже и без того хлебнувших лиха…
Потом Гене увидел, как его уже осужденных кумиров выводили под конвоем и грузили в синий тюремный «воронок», похожий на хлебный автофургон, но с железными решетками на окнах… И как билась в истерике Муська-Давалка, как рвалась она к «воронку», как кричала раненым зверем, отбиваясь от мужланов в милицейской форме, пытавшихся скрутить ее и оттащить в сторону.
Но еще больше его удивило и запутало другое.
14
Прильнув к щели в одной из ставен, которыми на ночь мать закрывала окна, и дрожа от страха, Рыжук подсмотрел, как поздним сентябрьским вечером дворничихин подвал окружили военные – в зеленых фуражках, с винтовками они прикатили во двор на нескольких грузовиках.
Он поверить не мог своим глазам, когда увидел, что «Клаусы», еще недавно трусливо бежавшие от пацанов, сейчас отбивались упорно и отчаянно. О, как они повыскакивали разом из дверей и окон, крича и паля из наганов! Как отважно пошли на прорыв! Как яростно отбивались и отбрыкивались от людей в военной форме, которые волокли их к машинам…
Но когда истошный хрип одного из «Клаусов»: «Сволочи!» вдруг прорезал нависшую над двором темень, Гене нечаянно задохнулся, но не от восторга или мстительной радости при виде поверженных врагов, а от непонятной и острой жалости к ним… Столько отчаяния и ненависти было в этом вопле, так похож он был на крик Муськи-Давалки, дикой волчицей бросавшейся на защиту пацанов, таким это все было загадочным и тревожным, что Рыжук заплакал. «Эти-то что защищали?!». Он запутался совсем и очень надолго.
Тогда он лишь догадался, что ни пацаны, ни Муська-Давалка, ни «Клаусы» вовсе не были хозяевами во дворах.
И не нравились власти, которой все принадлежало, включая и прокуроров, и судей, и военных на грузовиках, и которая в упор не признавала ни пацанов, ни «Клаусов», отчего они были здесь вне закона.
15
Про национальную принадлежность он и тогда, и много позже вовсе ничего не знал, потом просто не задумывался, тем более не подозревал, что эта принадлежность может каким-то нелепым образом разводить людей или становится препятствием в жизни. О «пятой графе» в личном деле, да и о том, что двое из его школьных друзей евреи, он впервые узнал только лет через пять после школы, когда одному из них по этой причине отказали в приеме в партию и, соответственно, в повышении по службе.
И к «Клаусам», и к «клаусикам» он относился совсем не как к литовцам; и себя не ощущал ни литовцем, ни перебежчиком, и Зигма для него не был поляком, а Славка Косой – татарином. Об их, о своей национальности он вообще не задумывался. Рыжюкас помнит, как они с друзьями искренне смеялись, когда на праздничном вечере в литовской школе, куда они пришли, объявили по радио, что явились русские хулиганы, из-за чего вечер прекращается… Хулиганы – наверное, но при чем здесь русские? Тем более что по метрикам он был урожденный литовец.
16
О том, что многое здесь не так, как виделось ему в детстве, Рыжюкас впервые задумался уже после того, как Литва ушла из Союза, начав развал того, что всем здесь, видимо, кроме «Клаусов» и «клаусиков», казалось нерушимым.
Тогда, приехав в город, ставший вдруг литовским, он сообразил, что их русскоязычная школа в самом центре города совсем не случайно оказалась вдруг не на месте. Отчего ее и снесли, как позднее убрали и памятник Пушкину в сквере за университетом…
Получилось, что не «Клаусы» с «клаусиками», а Витька Отмах, и Муська, и Ромка Чижик, и Зигма – вся их кодла вместе с «примкнувшим» Рыжуком были здесь чужими. Впрочем, такими же чужими, как и власть, считавшая себя здесь законной. И она, и они мешали «клаусикам» и «Клаусам» налаживать здесь свои порядки и свою жизнь, может быть, не слишком громкую, не всегда уклюжую, но свою, собственную, пусть по-литовски и наивно самодостаточную…
Власть – ладно, но как случилось, что задним числом и пацаны оказались почему-то русскими оккупантами?
Какими же «оккупантами» они могли быть – никогда не захватывая ничьей территории, кроме чужих садов, живя, где родились и выросли?..
Другое дело, и в этом трагичность, что жили они не во дворах от базара до Тарзанки, и даже не в литовском (теперь сразу оказавшимся таким крохотным) государстве, а в необъятной, несуразной, но великой стране, в несокрушимость которой они-то верили свято. И ощущали себя в ней – «от Москвы до самых до окраин» – полноправными хозяевами. И отстаивали те правила и ту справедливость, которые сами себе выбрали – в соответствии со своими дворовыми законами.