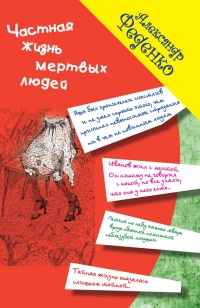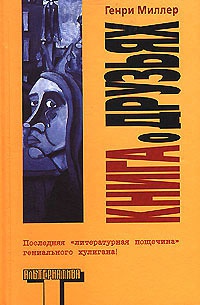Книга Частная жизнь Пиппы Ли - Ребекка Миллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, распрощавшись с колледжем, Грейс не пожелала присоединиться к подругам, шумной толпой хлынувшим в Бруклин, а сняла однокомнатную квартирку с высокими арочными окнами и линолеумом цвета зеленых соплей в Испанском Гарлеме. Она надеялась попрактиковаться в испанском и решить, чем хочет заниматься дальше. Благодаря финансовой помощи родителей она могла не работать, по крайней мере летом, при условии, что будет экономить. Поначалу девушка бродила по Баррио, рассматривала нехитрый товар уличных торговцев: старые платья для первого причастия, потрепанные книги и гребешки и, поедая бобы с жареными бананами, которые подавали в местном ресторанчике, читала биографии Ли Миллер[4]и Лоуренса Аравийского.[5]В квартиру Грейс купила два бескаркасных кресла (одно вишнево-красное, другое ярко-оранжевое) и изящную белую кровать из кованого железа. Она практически ни с кем не общалась, радовалась, что сумела сменить обстановку, не покидая привычной среды, и чувствовала какое-то пассивное удовлетворение, осознавая: потенциал у нее огромный, хотя пока совершенно нереализованный.
Со временем Грейс изучила свой квартал вдоль и поперек: пыльные окна Ассамблеи Божьей на третьем этаже в доме № 1125, пахнущий плесенью букинистический в подвале дома 130, гомеопатическую аптеку на углу, где продавали чудодейственные средства от несчастной любви, ностальгии и «большинства недугов души и тела». Бакалейную лавку на углу 120-й улицы содержали болтливый доминиканец с красными опухшими веками и его молчаливый внук с бледным лицом, затравленными глазами и эспаньолкой, превращавшей его в персонаж картины Эль Греко. Внук-меланхолик день-деньской хандрил за кассой, а перед лавкой на складных стульях неизменно восседали пятеро стариков, которые обсуждали прохожих и делали ставки на все: от скачек до того, кто первым наступит на большую трещину в асфальте. Молодые женщины с черными, зачесанными назад волосами, гордо вышагивали по улицам, толкая перед собой коляски с детьми. Владелица прачечной самообслуживания, сморщенная старушка с высокой прической, любила курить на свежем воздухе и болтать с соседями, если, конечно, не складывала белье, стоя за венецианским окном.
Отрезок Лексингтон-авеню между 120-й и 122-й Восточными улицами представлялся Грейс отдельным замкнутым мирком. Постепенно люди начали узнавать девушку и здороваться, встретив в магазине, но, тем не менее, она чувствовала себя невидимкой. В свой круг местные ее не принимали, считая чем-то временным, сторонней наблюдательницей. Впрочем, Грейс даже внешним видом разительно отличалась от «аборигенов»: дикая копна светлых волос, мелкими злыми колечками падающих на заостренное интеллигентное лицо, высокий рост, стройное мускулистое тело с небольшой грудью. В движениях просматривалось что-то мальчишеское. Со спины, глядя на узкие бедра, широкие плечи и расслабленную позу, ее можно было принять за длинноволосого паренька.
Жаркой июльской ночью Грейс разбудил звон разбитой бутылки. Один мужчина закричал по-испански, другой ответил. Благодаря высокому сводчатому потолку раздраженные вопли эхом разносились по квартире. Выбравшись из кровати, девушка босиком прошла через всю комнату, желая разобрать, о чем речь. Молодая женщина громко причитала, в ее голосе ясно слышались слезы. Желая остаться незамеченной, Грейс замерла в нескольких сантиметрах от подоконника и выглянула на улицу. Три участника разборки стояли, облокотившись на припаркованные у обочины машины. Грейс тут же узнала меланхоличного внука хозяина бакалеи. Никогда еще она не видела его таким взволнованным: молодой доминиканец оживленно жестикулировал, называя второго мужчину, пожилого, крепко сбитого типа, «дураком и обманщиком». Худенькая девушка лет пятнадцати — Грейс не раз встречала ее на окрестных улицах с коляской — повисла на руке бакалейного внука, пытаясь увести прочь. За происходящим, сбившись в кучу, наблюдали несколько зевак.
Грейс, словно из театральной ложи, следила за настоящей жизненной драмой. Поначалу казалось, разборка зашла в тупик: бакалейный внук истерично орал на коренастого незнакомца, девушка то пыталась его успокоить, то сама срывалась на визг, а незнакомец то опасно приближался к молодой паре, то снова возвращался к капоту своей машины. Несмотря на угрожающую позу, чувствовалось: ему не слишком хочется спорить. Пару раз он даже оглядывался по сторонам, словно прикидывая, куда бы сесть. Но вот бакалейный внук прокричал нечто, переполнившее чашу терпения коренастого незнакомца. Что именно, Грейс не разобрала, однако резкая фраза явно стала последней каплей. Оттолкнув девушку, словно тряпичную куклу, незнакомец бросился на внука, одним ударом сбил его с ног, а потом ушел, раздосадованно качая головой. Осмелевшие зеваки тут же подлетели к внуку, который медленно сел и, отмахнувшись от ненужного сочувствия, поднялся и заковылял в противоположную сторону.
Утром Грейс неожиданно вспомнила «Конику-минолту», подаренную родителями на окончание колледжа, достала фотоаппарат из чехла и заправила пленку. Так началось серьезное увлечение фотографией. Следующие два месяца девушка старалась запечатлеть каждый вздох своего квартала. Люди уже успели к ней привыкнуть, поэтому спокойно реагировали, увидев наведенный на себя объектив, а изредка даже приглашали домой. Грейс снимала все: Ассамблею Божью во время воскресной службы, приветливого владельца бакалеи, его сумрачного внука, сидящих перед лавкой стариков, старушку из прачечной. Фотографируя день и ночь, словно одержимая, она каплю за каплей создавала себе портфолио. Результат, огромная кипа снимков, говорил о безграничной преданности своему увлечению и отличном чутье.
Грейс попала на собеседование к редактору газеты «Хартфорд курант», где, как она слышала, набирали молодых фотографов. Ее взяли в штат. Осень и зиму девушка гонялась за пожарными машинами и снимала оранжевую ленту, натянутую вокруг домов, в которых совершались убийства, а летом ее вместе со старшим коллегой из «Хартфорд курант» отправили в Луизиану готовить репортаж об урагане Катрина. Целых две недели она спала буквально по три часа в сутки, боясь упустить хоть минуту страшной трагедии. Командировка получилась на редкость удачной: в ее снимках воплощались горе и отчаяние, а толика черного юмора придавала им выпуклость и динамику. Будто волей случая девушка оказывалась в нужном месте в нужный час. Фоторепортаж, привезенный в редакцию, поражал сюрреализмом: перепуганные мальчишки в резиновых масках Джорджа Вашингтона, Элвиса Пресли и Чаки из «Карапузов» в темном переулке натыкаются на труп старика, бездомный пес дрожит на островке мусора в окружении надувных кукол, пышнотелая женщина танцует в разрушенной гостиной, со стен которой лохмотьями свисают обои. В «Хартфорд курант» Грейс вернулась звездой. Через два года она в ранге официального фотографа «Гетти имиджис» уже летела в Кабул.
То, что другие воспринимали как талант, а сама Грейс совершенно иначе, ставило ее в тупик. Собственная удачливость казалась пугающе невероятной: девушка словно выдумывала неожиданные образы и ракурсы, силой воображения нанося их на пленку. Фотографируя, она уходила в себя, забывала обо всем, поэтому слышать похвалу было как-то неловко. Порой неожиданная идея поглощала настолько, что Грейс делала снимки автоматически, а потом недоумевала: «Это действительно моя работа?» Ее, конечно, ее, а холодный рассудок подсказывал: «паранормальные» аспекты избранной профессии — обычный юношеский бред. Им она не стала бы делиться ни с кем, кроме брата-близнеца. К Бену Грейс относилась с жесткой (а порой и жестокой) откровенностью и насмешливой резкостью, которую проявляла лишь в очень узком кругу.