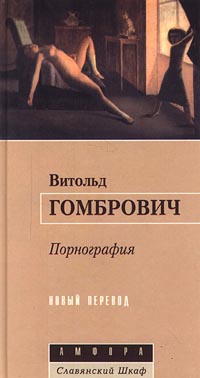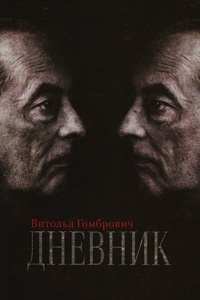Книга Космос - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…множество других событий, отвлекающих, привлекающих, но каждый вечер неизбежный, как луна, ужин с Леной напротив со скользящими вокруг нее губами Катаси. Леон заготавливал хлебные шарики и, расставляя их рядами, очень старательно, – разглядывал их с огромным вниманием – после минутного раздумья насаживал один из них на зубочистку. После более длительных размышлений он, случалось, брал на нож щепотку соли и посыпал ею шарик, с подозрением к нему приглядываясь сквозь пенсне.
– Ти-ри-ри!
– Гражина моя! Чой-то ты не запупусишь папусе своему пару пупусик редисковеньких? Ну-ка, подкинь!
Это означало, что он просил Лену передать ему редиску. Иногда трудно было понять, что он городит: «Гражина ты моя, Гражина, цветочек папкин крышу грыжит!», «Кубышечка моя, не пора ли попетюкать без петюки пятого?». Он не всегда «выпендрючивался во словоблудии», начнет, бывало, безумным бормотанием, а закончит нормальным языком, или, наоборот, – блестящая тыква его лысого кумпола с подвешенным снизу лицом, с нацепленным пенсне, нависала над столом, как аэростат, – у него частенько случалось хорошее настроение, тогда он сыпал анекдотами, присказками, матуси, матани, велосипеды, манто и Айзик в ландо, э-ге-гей, приехали!.. А Кубышка поправляла у него что-то за ухом или на воротнике. Потом он впадал в задумчивость, заплетал в косички бахрому салфетки или втыкал зубочистку в скатерть, – но не в любое место, а в определенное, к которому долго приглядывался, нахмурив брови.
– Ти-ри-ри.
Меня это нервировало, потому что рядом был Фукс, и пан Леон лил воду на дроздовскую мельницу, которая мелет Фукса с утра до вечера, а ему через три недели возвращаться в контору, где Дроздовский снова будет с видом мученика смотреть в угол или на печь, потому что, говорил Фукс, у него аллергия даже на мой пиджак, противен я ему, ничего здесь не поделаешь, противен… и сумасбродства Леона каким-то образом играли на руку Фуксу, который присматривался к ним бледно-желто-рыже… все это еще сильнее утверждало меня в моей антипатии к родителям, в моем отказе от всего прежнего, варшавского, и я сидел враждебно и неприязненно, с неприязнью рассматривая руку Людвика, до которой мне не было никакого дела, которая меня отталкивала и одновременно притягивала и эротические возможности прикосновения которой я должен был для себя уяснить… а между тем Кубышка, осознавал я, перегружена работой: стирка, глажка, штопка, уборка и т. д., и т. п. Рассеянность. Шум, гам и омут. Я искал мой кусочек пробки на бутылке и рассматривал эту бутылку и пробку, наверное, только затем, чтобы больше ничего не видеть, эта пробочка стала для меня как бы лодкой и пристанищем в океане, хотя пока со стороны океана до меня доносился только шум, шум далекий, шум привычный и слишком общий, чтобы в нем можно было что-нибудь расслышать. И больше ничего. Несколько дней, заполненных всем понемногу.
Продолжалась страшная жара. Мучительное лето! Так это и тянулось, с мужем, с руками, с губами, с Фуксом, с Леоном, тянулось и брело, заплетаясь, как человек в жаркий день на дороге… На четвертый или пятый день, когда я сидел, попивая чаек и покуривая сигарету, мой взгляд, не в первый уже раз оторвавшись от спасительной пробочки, сместился в глубь комнаты и зацепился за гвоздь в стене, рядом с полкой, а от гвоздя перебежал к шкафу, на котором я пересчитал багет, усталый и сонный, забрался в менее доступные места над шкафом, где обтрепались обои, и забрел на потолок, в белую пустыню; но ее скучная белизна дальше, вблизи окна, переходила в более темное бугристое пространство, сочащееся сыростью, со сложной конфигурацией континентов, заливов, островов, полуостровов и странных концентрических кругов, напоминающих лунные кратеры, со смещенными, косыми и касательными линиями, – местами болезненное, как лишай, местами первозданно-дикое, а кое-где причудливо исчерченное завитками и закорючками, – все это было пронизано ужасом безысходности и терялось в головокружительной бесконечности. И точки, не знаю уж от чего, но только не от мух, то есть вообще неизвестного происхождения… Всматриваясь, погружаясь в это и в собственные неурядицы, я всматривался и всматривался без специальных на то усилий, но упорно, и в конце концов будто перешагнул какой-то порог – оказался как бы с «той стороны» – и отпил глоток чая, – Фукс спросил:
– Куда ты уставился?
Мне не хотелось говорить, душно, чай. Но я ответил:
– Царапина, там, в углу, за островом, и что-то вроде треугольника. Рядом с перешейком.
– Ну и что?
– Ничего.
– Но все же?
– Да так…
Немного погодя я спросил:
– Что это тебе напоминает?
– Эта полоска и царапины? – подхватил он охотно, и я знал, почему охотно, знал, что это отвлекает его от Дроздовского.
– Так… Минуточку… Грабли…
– Может быть, грабли.
В разговор вмешалась Лена, услышав, что мы затеяли игру в загадки и отгадки, – вполне светское развлечение, простая игра впору ее робости.
– Какие там грабли! Стрелка.
Фукс запротестовал:
– Какая там стрелка!
На несколько минут нас отвлекли, Людвик спросил Леона: «а не сыграть ли нам в шахматы, отец?», у меня задрался ноготь и мешал, упала газета, за окном залаяли собаки (две маленькие, молодые, смешные собачонки, их на ночь выпускали, имелся также кот), Леон сказал «одну», Фукс сказал:
– Может, и стрелка.
– Может, стрелка, а может, не стрелка, – заметил я и поднял газету, Людвик встал, по дороге проехал омнибус. Кубышка спросила «ты звонил?».
Не сумею я об этом рассказать… обо всей этой истории… потому что рассказываю ех post. Стрелка, например… Эта стрелка, например… Эта стрелка тогда, за ужином, не была, конечно, важнее шахмат Леона, газеты или чая, все – равнозначно, все – в мозаику данного мгновения, звучание в унисон, гул пчелиного роя. Но сегодня, ex post, я понимаю, что стрелка была самой важной, поэтому в своем рассказе я выдвигаю ее на первый план, подбирая из массы однородных фактов конфигурацию будущего. Да и как рассказывать не ex post? Так, значит, ничто и никогда не может быть адекватно выражено, воспроизведено в своем анонимном бытии, никто и никогда не сумеет передать лепет рождающегося мгновения, то есть мы, родившиеся из хаоса, никогда не сможем с ним соприкоснуться, стоит нам взглянуть, и под нашим взглядом рождается порядок и форма… Ну что же… Все равно. Пусть будет так. Катася каждое утро будила меня к завтраку, в моих сонных глазах сразу отражался дефект ее губ, этот скользкий выверт, заклеймивший ее деревенское лицо с голубыми честными глазками. Могла ли она на четверть секунды раньше прервать свой поклон над моей кроватью? Не затягивала ли она его хотя бы на долю секунды?… Может быть, да… может быть, нет… неопределенность… только возможность, но эта возможность раскручивалась во мне при воспоминании о ночных мыслях о ней. С другой стороны… а что, если она стояла надо мной из чистой вежливости? Мне трудно было что-то заметить, наблюдение за людьми сопряжено со значительными трудностями, это вам не натюрморты, которые можно как следует разглядеть. Во всяком случае, я каждое утро лежал под ее губами, это проникало в меня и оставалось на весь день, храня разногубую комбинацию, в которую я впутывался намеренно и упрямо. И мне, и Фуксу мешала работать жара, мы оба измучились, он извелся, раскис, опустился и был похож на воющего пса, хотя и не выл, а только нудил. Потолок. Однажды в полдень мы, как всегда, валялись на кроватях, окна были занавешены, день гудел от мух, – и я услышал его голос.