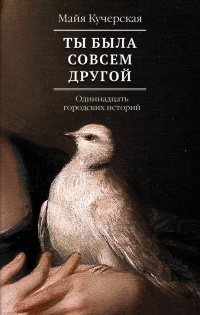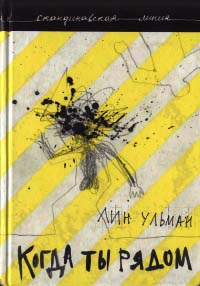Книга Я была рядом - Николя Фарг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я страшно парился по поводу Кодонга, по поводу мобалийца, который не желал причинить мне решительно никакого зла и которому вообще было на меня насрать. Единственное, что нас несколько роднило, так это его связь с моей женой, которую он три ночи подряд трахал в номере отеля. Меня стало тошнить от одного только упоминания страны Мобали, тоже, кстати, не имеющей со мной никаких счетов, от здоровенных красивых черных англоговорящих парней, от музыки R’n’B, которую двое любовников слушали, под которую танцевали и целовались в ночных клубах, и особенно от песни «Spinning 2gether» «Марониз Панкерс», которую Алекс поставила на нашем проигрывателе сразу по приезде, даже не распаковав чемоданы; она сделала это с отсутствующим, равнодушным взглядом, словно была все еще там, с отчужденной, но сочувственной улыбкой, с беспомощными раздраженными вздохами, будто в этот момент вспоминала волшебные минуты, когда он так ловко двигался, кружился с ней на танцполе адски крутого ночного клуба в Кодонге, мать его. Я заговорил об этой песне «Марониз Панкерс», под которую она, пританцовывая, распаковывала чемоданы, потому что я тоже пытался танцевать вместе с ней, я был в одних трусах, и мне хотелось устроить ей маленький праздник, я изо всех сил старался улыбаться, хотя я еще не видел дневника, но уже догадывался, что она думает о другом мужчине, что все ее загадочные полуулыбки и рассекающий пространство взгляд обращены не ко мне. Все стало для меня очевидным, когда, поставив песню «Spinning 2gether» и видя, как жалкий рогоносец в трусах в лепешку разбивается, подпрыгивая на кафельном полу гостиной в надежде ей понравиться, безуспешно подражая шикарным чернокожим танцорам R’n’B, на которых она часами пялится в телевизор по Brozasound TV, видя, как я выпрыгиваю из штанов, которых на мне и так не было, дабы показаться секси, в то время как жестокое предчувствие уже начинало потихоньку разрушать меня изнутри, а я все еще скрывал его под маской широкой улыбки, словно застывшей на лице, — так вот, видя все это, она наконец подошла ко мне и сказала, разумеется из жалости: «Потанцуй со мной». И я, тут же уловив в ее голосе интонацию вызова, дрожа как последняя тряпка, все уже зная наперед, с острым животным инстинктом угадывая ее ностальгические взгляды и улыбки, обращенные к другому, понимая, что я могу рискнуть, сыграть в рулетку и все потерять, заранее чувствуя, что именно так и будет, — я все же решился, я даже осмелился подойти к ней, взял ее за руку и, продолжая улыбаться, как безумный закружил ее в танце. Ровно через пятнадцать секунд — могу сказать точно, часы были у меня на руке — знаешь, что она мне сказала? Она аккуратно, но решительно высвободилась из моих рук, горько, разочарованно ухмыльнулась и сказала: «Ладно, забей». И знаешь, в чем был весь ужас происходящего? В том, что, хоть я и чувствовал себя раздавленным, униженным, жалким, я не остановился, я продолжал танцевать. Я был ничтожным белокожим парнем очень среднего роста и веса, виновным и рогатым, прыгающим на кафельном полу гостиной в одних трусах, точь-в-точь как обезглавленная курица на заднем дворе. Александрина раз двадцать ставила одну и ту же песню, их песню. И каждый раз я прятал глаза, чтобы не видеть ее взглядов, и затыкал уши, чтобы не слышать ее вздохов, чтобы не броситься к ее ногам, не закричать, не заставить ее признаться, что у нее был кто-то другой, ведь я за километр чувствовал, что она влюбилась и что она злится на меня, ибо по моей вине ей пришлось вернуться домой, в эту дыру в Тонамбо, — я заметил это, еще когда она выходила из самолета, а я как идиот всматривался в ее походку, стоя за стеклянной стеной аэропорта. В черных очках, высокомерная, сексуальная, холодная, непреклонная, заметно постройневшая, в модных шмотках, которых я на ней никогда раньше не видел, с меланхолическим капризным видом какой-нибудь звезды R’n’B, с непроницаемым лицом, она спустилась по лесенке гораздо медленнее, чем обычно, опустив глаза и даже ни разу не взглянув туда, где мы с детьми ждали ее; казалось, она не спешила ни с кем встретиться, а шла так медленно, потому что вообще хотела остаться в самолете, улететь обратно, вновь окунуться в пьянящую атмосферу города, где она покупала сексуальное нижнее белье, чтобы понравиться ему, где позволяла целовать себя с языком, сосать свою грудь, засовывать пальцы себе во влагалище, входить в себя по-английски, во всех возможных позах в этом сраном проветренном номере этого сраного отеля, — три ночи подряд мобалийцу, который одевается и танцует, как Р. Келли, было позволено все, но ведь и она сама его трогала, целовала, сосала! То, что я испытал во время этого «Потанцуй со мной» и во время футбола с детьми, — худшие мгновения в моей жизни. Даже хуже, чем когда я пел ей песню все в тот же злосчастный день ее приезда. Я заранее прорепетировал эту песню, чтобы в энный раз попросить прощения за мой гнусный поступок, который я совершил три месяца назад, но который все еще неотступно преследовал меня, внушая нестерпимое чувство вины. Я заранее всю неделю как идиот тренировал португальское произношение, повторял слова этой прекрасной песни о любви, учил мелодию, запершись у себя в комнате. Я спел эту песню вечером в день ее приезда, в ванной, стараясь изо всех сил как дурак, я поздравлял ее с возвращением, я пел специально для нее, пытаясь как можно чище взять все ноты, подхватывая дыхание, глядя прямо ей в глаза и еле удерживаясь от слез, вспоминая, как кошмарно я с ней поступил. Я пел очень высоким голосом, а-ля Кертис Мэйфилд, потому что однажды она сказала, что ей бы хотелось послушать, как я пою высоким голосом. Но в этот вечер ей, разумеется, не хотелось меня слушать. У нее в ушах все еще звучал низкий голос мобалийца, о котором она написала в дневнике, что сходит с ума от тембра «черных». А я, наверное, совсем не был похож на Кертиса Мэйфилда. В общем, мой высокий голос ей не понравился. Когда я закончил, она широко и снисходительно, но как-то фальшиво улыбнулась и сказала: «Очень хорошо, спасибо, ты очень мил, узнаю тебя. Но попробуй петь пониже, так будет лучше». Еще хуже было в следующий вечер, когда я решил сводить ее в ресторан, как будто мы любовники, выпить, потанцевать, я хотел показать ей, как я ею дорожу, как я хочу сделать нас счастливыми, как хочу снова поверить в наш брак. После этого в полночь, увидев, как я тихо роняю слезы, вспоминая, какую боль ей причинил, она молча, не глядя на меня, протянула мне носовой платок через маленький низкий столик, на котором стояли мой пунш коко и ее капиринья. Еще хуже был момент, когда мы вышли из бара и по дороге на дискотеку, в машине, я, в тысячный раз томясь ее молчанием, ее отсутствующим видом, ее загадочными вздохами, я в третий или четвертый раз за вечер тихим, нежным голосом лопоухого рогоносца спросил, все ли у нее в порядке. Я достал ее до такой степени, что в конце концов она повернула ко мне свое холодное лицо, посмотрела на меня уничижительным взглядом, от которого я всегда чувствовал себя последним дерьмом, и буквально припечатала меня словами: «Слушай, прекрати каждые пять минут спрашивать у меня, все ли в порядке. Я могу не выдержать и выйти из себя. Это плохо кончится. Пожалуйста, не надо все портить. Если я говорю, что все нормально, значит, все нормально». А еще хуже был субботний полдень, когда я сидел рядом с ней на краю нашей кровати, где не спал уже целую неделю, с тех пор как обнаружил в голубеньком дневнике мобалийца. Уж лучше подыхать в одиночестве — во-первых, чтобы не смущать ее, во-вторых, я понял, что она чувствовала из-за моей связи с певичкой, и теперь она никогда не сможет простить меня до конца. Итак, сидя на кровати, я решил вымолить у нее правду, заставить честно сказать мне, что у нее есть кто-то другой. Я нуждался в том, чтобы она сама сказала мне правду, потому что я не мог до конца поверить, несмотря на доказательства, несмотря на предчувствие. Сомнение мучило меня еще больше, чем голая правда. Однако она все отрицала, да еще с таким садистским апломбом злобной мстительницы, что мне казалось, будто каждое ее слово отсекает от меня кусок и я превращаюсь в некую слезную, больную субстанцию — в лохмотья искромсанного страданием человека. И тогда я решился пустить в ход беспроигрышное оружие — я знаю, это оружие не используют в честной игре. Я сказал ей: «Поклянись жизнями наших детей, что у тебя никого нет». Наступила двух- или трехсекундная пауза, которой, собственно, все было сказано, она даже не смогла сдержать облегченную улыбку — первую настоящую улыбку с момента ее приезда, улыбку, вернувшую ее в прекрасный мир к мобалийцу, — и ответила: «Нет, поклясться детьми я не могу. Да, у меня кто-то был». Когда я услышал это робкое признание и увидел лукавую улыбку облегчения, мне в сердце словно выстрелили прямо из пушки. Я упал с кровати и, весь в слезах, заорал, обращаясь к потолку: «Нееееееет!» Я проорал это два или три раза, стиснув голову застывшими в нервной судороге пальцами, будто несчастная жертва в какой-нибудь театральной постановке. Но в тот момент я вел себя совершенно естественно, мне тогда и в голову не пришло бы, что все это напоминает плохо сыгранную сцену из плохой мыльной оперы. Я лежал на полу и орал, мне хотелось расцарапать себе лицо, вырвать волосы, я чувствовал, что от лица у меня отхлынула кровь. Мне слишком больно об этом говорить, но в этих маленьких дурацких деталях квинтэссенция душевной боли. Я и рад бы их выкинуть из памяти, но они вцепились в меня мертвой хваткой и не отпускают.