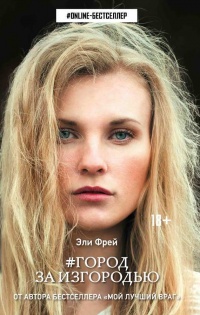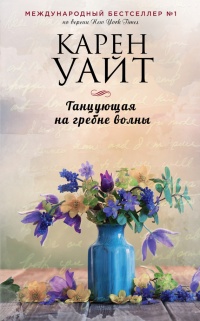Книга Рука, что впервые держала мою - Мэгги О'Фаррелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ты меня стукнула, — отвечает Тед, уставившись в экран.
— Стукнула?
— Замахала во сне руками и…
Шум в телевизоре нарастает, слышен рев, и Тед вдруг разражается страстной, сбивчивой тирадой. Слов не разобрать, Элине слышится «да», «боже» и ругань.
Тед сжимает кулаки, спорит с телевизором. Из другого конца комнаты, рядом с дверью на кухню, раздается еще звук. Будто пискнул птенец или котенок. Элина резко оборачивается. Малыш. И снова тоненький писк: пииип!
— Тед, — просит Элина, — потише, разбудишь ребенка.
Телевизор по-прежнему орет, но Тед, понизив голос, бормочет: «Во дает!» Элина прислушивается, но ни звука больше из плетеной кроватки. Высовывается ручка, медленно сгибается в воздухе, будто малыш делает гимнастику. Потом он затихает.
— Как называется игрушка, шар, а внутри — вода и искусственный снег? — спрашивает Элина.
Тед застыл в напряженной позе, подавшись вперед.
— Что?
— Ну, знаешь, у детей. Потрясешь — и снег кружится.
— Не знаю… — начинает Тед, но тут в телевизоре что-то происходит, и он шепчет: — Нет! — и валится на подушки в позе отчаяния.
Элина находит что-то на диване. Мастихин с упругим лезвием. Элина гнет его так и сяк, подносит к лицу, разглядывает, как археолог находку из прошлого. На стыке лезвия и рукоятки засохла краска — красная, зеленая, капелька желтой; на перламутровом пластике рукоятки — крохотная трещинка, на кончике — следы ржавчины. Хоть и похож на нож, думает Элина, да разве это нож? Таким ножом ничего не разрезать. Не разрубить, не распороть, не пронзить, не проткнуть, как обычным ножом, ведь настоящие ножи…
— Что ты там делаешь?
Элина оборачивается. Тед, к ее удивлению, смотрит прямо на нее.
— Ничего. — Элина кладет мастихин на колени.
— Что это? — спрашивает Тед с подозрением, будто готов услышать в ответ: «Пустяки, ручная граната, милый».
— Ничего, — повторяет Элина, а сама удивляется, откуда взялся мастихин, почему он здесь, а не в студии. Она здесь работала, мешала на кофейном столике гипс, чего обычно никогда не делала. В доме живут, в студии работают. Но жара стояла адская, и короткий путь через сад был ей не под силу.
Элина вдруг ловит на себе взгляд Теда, полный ужаса.
— Ты что? — спрашивает она.
Тед молчит. Он будто не слышит, глядит на нее испуганно и завороженно.
— Что ты на меня так смотришь? — Взгляд Теда прикован к ее шее. Элина дотрагивается до нее рукой — от прикосновения подскакивает пульс. — Что с тобой?
— А? — откликается Тед, будто очнувшись от забытья. — Что ты говоришь?
— Я спрашиваю, что ты на меня так смотришь?
Тед отводит взгляд, вертит в руках пульт.
— Прости, — бормочет он и вдруг спрашивает, будто оправдываясь: — Как смотрю?
— Как на чокнутую.
Тед ерзает на диване.
— Да что ты! Ничего подобного. Нет, конечно.
Элина с трудом приподнимается. Шум телевизора становится невыносимым. Кажется, ей не встать с дивана — подогнутся ноги или лопнет живот. Но она вцепляется в подлокотник, Тед хватает ее за руку повыше кисти, помогает подняться, и Элина ковыляет по комнате, согнувшись в три погибели.
Ей нестерпимо хочется посмотреть на ребенка. То и дело ее посещает это желание. Убедиться, что он здесь, что он ей не приснился, что он дышит, что он все так же прекрасен, так же совершенен. Она подходит к плетеной кроватке, прихрамывая, — пора принять обезболивающее — и заглядывает внутрь. Малыш лежит укутанный в одеяльце, кулачки возле ушей, глаза крепко зажмурены, губки сурово сжаты: сон — дело серьезное. Элина кладет ладонь ему на грудь и — пусть это уже лишнее, пусть и без того понятно, что все хорошо, — чувствует великое облегчение. Дышит, говорит себе Элина, — значит, жив, жив.
Она пробирается на кухню, хватается за плиту, чтобы не упасть, и бранит себя. Откуда у нее страх, что он может умереть, покинуть ее, уйти из мира? Это же чистое безумие, уверяет она себя, ища взглядом на полках чайник, глупость, да и только.
На другое утро мастихин лежит на полу под диваном. Элина опускается на четвереньки, чтобы поднять его, и заодно заглядывает под диван. Сколько там всего: монеты, булавка, катушка с нитками, заколка — наверное, ее старая. Выудить бы их линейкой или деревянной ложкой — хорошая хозяйка на ее месте так и сделала бы. Но домашнее хозяйство — не ее страсть. Есть в жизни занятия поинтереснее. Если б только вспомнить какие.
Элина встает, и снова ее пронзает жгучая боль. Может, все-таки позвонить Теду и спросить: «Тед, откуда у меня шрам? Что со мной случилось? Расскажи, я не могу вспомнить?»
Но сейчас не время. Тед, наверное, в монтажной, в своем логове, как называет ее про себя Элина, — вырезает из фильмов лишнее, чтобы выходило гладко и безупречно, будто так и задумано. А вдруг она и сама вспомнит? В последнее время на него столько всего обрушилось — и съемки выбились из графика, и ребенок родился, — и лицо у него больное: бледное, изможденное. Нет, ни к чему его беспокоить.
И Элина идет не к телефону, а к окну. Дождь не утихает, льет без передышки уже несколько дней, небо мутное, нависшее, в саду сырость. Дом звенит в ритме дождя: капли барабанят по крыше, в канавах и водосточных трубах журчит вода.
Чуть раньше, когда она была еще беременна, дни стояли ясные, неделя за неделей. Элина пряталась от солнца у себя в студии, опустив ноги в ведро с холодной водой. По утрам занималась во дворе йогой на прохладной росистой траве. Ела грейпфруты, иной раз по три за день, рисовала муравьев, но лениво, бесцельно; смотрела, как кожа на животе вздымается, идет волнами, словно море перед бурей. Читала книги о естественных родах. Царапала углем на стенах студии имена для малыша.
Элина стоит у окна и смотрит на дождь. По тротуару в сторону Хэмпстед-Хит идет человек, следом бежит пес. Для нее загадка, куда делась та Элина, что писала углем, рисовала муравьев, читала о естественных родах, прохлаждалась в тени с ведром воды. Как она стала нынешней Элиной — в грязной пижаме, в слезах, готовой выбежать на улицу с криком: «Кто-нибудь, помогите, пожалуйста!»
«Элина Вилкуна, — повторяет она про себя, — тебя зовут Элина Вилкуна. Вот кто ты». Надо сосредоточиться на самом простом, очевидном. Может, тогда все встанет на свои места. Есть она, есть малыш, есть Тед. Точнее, для всех он Тед — полное имя у него длинное, но никто его этим именем не зовет. О Теде она знает все. Спросите — и она перескажет его жизнь. Если бы она держала экзамен по Теду, то сдала бы на пять с плюсом. Он ее друг, спутник, возлюбленный, вторая половинка, любовник, товарищ. Когда он выходит из дома, он едет на работу. В Сохо. На метро, а иногда на велосипеде. Ему тридцать пять, он старше ее ровно на четыре года. Волосы у него каштановые, он носит десятый размер обуви, любит курицу с карри по-мадрасски. Большой палец на одной руке у него длиннее и уже, чем на другой, — говорит, из-за привычки сосать его в детстве. У него три пломбы, белый шрам на животе — удалили аппендикс — и лиловый след на левой лодыжке — много лет назад ужалила медуза в Индийском океане. Он терпеть не может джаз, многозальные кинотеатры, плавание, собак и машины — наотрез отказывается покупать автомобиль. У него аллергия на шерсть и на сушеное манго. Такова внешняя сторона.