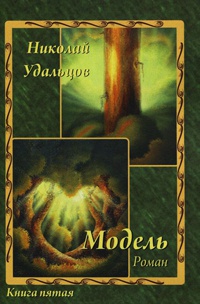Книга Взлетают голуби - Мелинда Надь Абони
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Немецкое слово «Schwarzarbeiter» значит не «чернорабочий», а «нелегальный рабочий»; когда я узнала это слово, мне одно время казалось, что люди, которых так называют, одеты с головы до ног в черное, потому что не хотят, чтобы их замечали; вот так одеваются воры, чтобы их не поймали, только глаза у них зыркают в ночи туда-сюда. Правда, есть и вполне легальные и даже почитаемые «шварцарбайтеры» – это пасторы, но они, в отличие от воров, носят не маску, а белый воротничок, и лица у них – безгрешные и благостные, прямо как свежеиспеченный хлеб. Другие «шварцарбайтеры» должны работать с чем-нибудь черным, например таскать мешки с углем. Или вроде стиральной машины: трудиться, пока черная вещь не станет белой…
Впервые слово «Schwarzarbeiter» я услышала в разговоре родителей; я тогда только начинала осваивать немецкий, и были слова, которые я быстро забывала, другие, наоборот, застревали в голове навсегда – таким было и Schwarzarbeiter. Нравилось мне в нем то, что, хотя я и не употребляла его – в противоположность таким обычным словам, как schlafen, essen, trinken, der See, die Frau, der Mann, das Kind, ja, nein[6], – оно давало пищу воображению. Другие слова скапливались в голове как ни на что не пригодный хлам: например, Ausweis, Niederlassung, Wartefrist[7]. Пока до меня дошел их смысл, прошло немало времени; играло тут роль, наверное, еще и то, что родители произносили их с неправильным ударением и невольно коверкали. Так Ausweis в их устах превратился в ледяной Eisweis, Wartefrist – в хрустящий Wortfrisch, а небрежно произнесенное Niederlassung – в Niidärlasso[8].
Отец почти полгода, не подозревая об этом, работал нелегально. Все в порядке, говорил ему тогдашний работодатель, Флури, владелец бойни, бумаги уже оформляются. Один из служивших у Флури мясников, привечавший отца, однажды сказал ему: слышь-ка, Мик, Флури на тебе больше зарабатывает, когда ты на него нелегально вкалываешь, усек? Отец задумался. В конце месяца в конверте у него лежало всего-навсего 900 франков, потому что из жалованья вычитали плату за питание и комнатенку над помещением бойни. Слова доброго подмастерья были для отца как отрезвляющая пощечина; произведя в уме несложные подсчеты, он собрался с духом и заявил хозяину: «Wenn kein Papier, Miklós gehen»[9]. И сам поразился, увидев, какое действие произвела его коротенькая, из пяти слов, фраза. Не прошло и двух недель, как он получил официальное разрешение работать по найму да еще небольшую прибавку к жалованью, хотя об этом и не просил, потому что в то время еще не знал, что другие работники получают чуть ли не вдвое больше, чем он. Почему не знал? Здесь не принято говорить, сколько ты получаешь, это была одна из первых фраз, которые я понял, сказал отец.
И еще кое-чего отец тогда не знал: «черные», нелегальные заработки отодвигают так называемый Familiennachzug, «вызов семьи», то есть возможность привезти к себе близких; возможность эта появляется, только когда у тебя есть вид на жительство и разрешение на работу («Familiennachzug» – «nachziehen» – «тянуть за собой», – перед моим внутренним взором появляется молодая пара, которая на сверкающем, новеньком автомобиле отправляется в дорогу, куда-то в будущее, а за ними прыгают, безбожно гремя, пустые консервные банки: автомобиль на веревочке тянет их за собой).
Зато потом Флури давал нам хорошие характеристики в отзывах, которые направлял в полицию по делам иммигрантов, я ему очень за это благодарен, говорит отец; благодарен, ворчит матушка, как будто это не из-за него наши дочери лишних полгода не могли к нам приехать. Родители потихоньку ссорились, когда мы с Номи спали, но я иногда их подслушивала, как и в ту ночь; я тогда только-только приехала в Швейцарию и хорошо помню те бессонные ночи, и не раз, когда я вслушивалась в тихий разговор родителей, слова кружились у меня в голове, словно опавшие листья в дождливый, ветреный осенний день, и венгерские: «бумага», «полиция», «письма», «благодарен», и немецкие: «Familiennachzug», «Schwarzarbeit», – матушка, похоже, в тот раз была выпивши, что случалось с ней очень редко, я и сегодня слышу ее резкий от обиды голос: три года, десять месяцев, двенадцать дней прошли, пока наконец прибыло детям разрешение на приезд!
Что это было за слово, с которым вы сюда приехали? – спрашиваю я, когда бутылка с шампанским пустеет и отец встает, чтобы принести еще одну.
Arbeit.
Мы с готовностью забираем у Таннеров все их запасы: консервированную фасоль, бесчисленные тюбики с соусом для жаркого и еще для чего-то, замороженный мясной фарш, картофельный гарнир «помм дюшес»; и не важно, что мы знаем, очень многое из этого нам вовсе не нужно: равиоли в банках, консервированное заливное, Ochsenschwanzsuppe[10](что это вообще такое, Ochsenschwanz? можно это есть? – ну конечно, отвечает матушка, вы это знаете, и переводит слово на венгерский; понятно, говорим мы, а про себя думаем: неужто, услышав «бычий хвост», кто-нибудь рискнет его заказать?); мы забираем у них все, еще бы: ведь для нас кофейня эта – настоящий счастливый лотерейный билет.
Третьего января 1993 года мы открываем «Мондиаль»; всю рождественскую неделю мы убирались, гладили, матушка наделала из песочного теста две тысячи круглых сочней и напекла пирожков с домашним абрикосовым вареньем, а мы с Номи лепили полумесяцы – сдобные рогалики с ванилью; целыми днями все мы трудились не покладая рук, чтобы потом неделю потчевать гостей домашним печеньем; мы старались показать себя с самой лучшей стороны, доказать: что-что, а руками работать мы умеем, мы, семья Кочиш, которую заметила и одарила улыбкой добрая фея; разве не этого мы ждали столько лет? – говорит матушка, ведь претендентов было много, чуть ли не целая очередь выстроилась, когда прошел слух, что Таннеры в конце года закрываются, – а получила кофейню я, буфетчица! И матушка снова и снова рассказывает, как они с отцом ломали голову, пытаясь понять, почему Таннеры в конце концов приняли такое решение, и признается, что ей теперь не совсем ловко будет торчать за стойкой, притягивая взгляды посетителей; и, ах да, братья Шерер, которые держат процветающую лавку сантехники, так те каждый день осаждали офис фрау Таннер, все никак не могли смириться с мыслью, что «Мондиаль» достанется не им; я пытаюсь вообразить, как матушка ходит по нашей деревне и говорит всем, кого встретит: слыхали, кофейня «Мондиаль» теперь моя! – и, произнося это, обеими руками берет руку собеседника или собеседницы и несколько мгновений держит ее, – это матушка-то, которая для меня – воплощение свободы и неприступности, а тем более сей час, когда она горда и счастлива.
Третьего января мы встаем очень рано, чтобы сделать себе прическу и принарядиться, за окнами еще темно, под глазами у нас круги, потому что мы почти не спали, даже через стены заражая друг друга беспокойством, но мы об этом не говорим, не говорим и о том, что нас то и дело бросает в пот – и от того, что хочется спать, и от нервного напряжения; мы не обдумали заранее, какие и какого цвета наденем платья; а вообще, когда я волнуюсь, мне кажется, что он никогда не наступит, тот день, из-за которого столько суеты и тревог; не наступит, наверное, потому, что время, которое отделяет тебя от долгожданного события, все тянется и тянется, превращаясь в какую-то бесконечную бессонную ночь; я, собственно, даже не могу сказать, что за мысли бродят у меня в голове: наверное, я думаю о том, должным ли образом мы подготовились, и еще, может быть, о том, что день, который ты с таким трепетом ждешь, спустя какое-то время канет в черную дыру, состоящую из многих таких же, нетерпеливо ожидаемых дней, но при этом в глубине души ты понимаешь, что именно этот день необыкновенно важен, и, хотя он даже еще не начался, тебя терзает страх: а хорошо ли он закончится? Вот мы, вот наша семья, вот наша кофейня, в этом замечательном месте, в этой общине, одной из самых богатых общин на правом берегу Цюрихского озера, а ведь мы с Номи, мы, собственно, совсем не вписываемся сюда, в кофейню «Мондиаль», так что я наверняка думала и о том, сколько всяких прекрасных начинаний заканчивалось крахом – много или все же не очень? От чего зависит успех: от каких-то серьезных вещей? Или от пустяков? У нас тут не свистят, тут вам не Италия и не Монголия, кричал нам один сосед каждый раз, когда мы с Номи начинали насвистывать сквозь зубы, Италию я еще понимаю, сказала Номи, но Монголия-то при чем? С тех пор как вы здесь, все идет черт-те как; это «идет черт-те как» не казалось мне такой уж большой бедой, но вот «с тех пор как вы здесь» – это у меня никак не выходило из головы; я даже прослезилась от гордости, что мы с Номи, выходит, смогли как-то повлиять на здешнюю жизнь; другие местные жители, и прежде всего клиенты нашей прачечной, то и дело спрашивали, не нужно ли нам чего-нибудь, и приносили нам мешки ношеной одежды, благодаря чему мы стали разбираться во всяких шикарных фирмах, Gucci, Yves Saint Laurent, Feinkeller, Versace – спасибо большое! – и от большей части этого барахла избавлялись: увозили в Югославию или отдавали обществу взаимопомощи Caritas; и вот я, усвоив, что швейцарцы – это люди, у которых на первом месте добрые дела, – я бегаю вся потная, потому что мне надо бы сейчас спать без задних ног и потому что я давно знаю: если ты не можешь спать, то не стоит тебе столько думать.