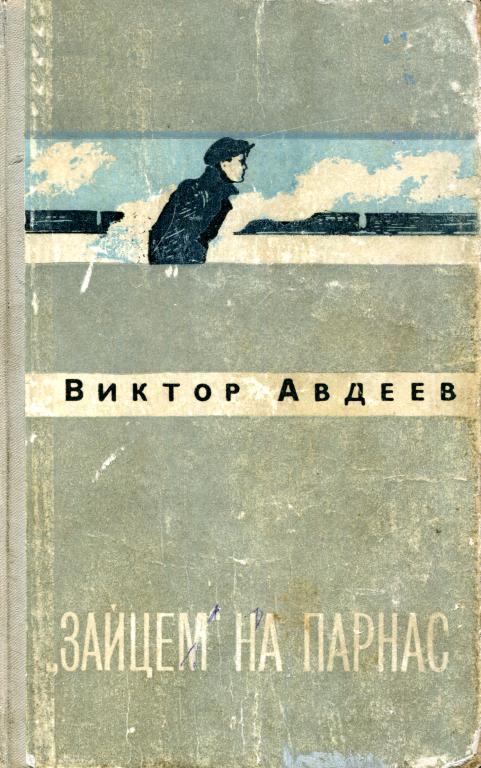Книга Под звездою Москвы - Иван Фёдорович Попов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Альберту показалось, что это голос Луизы. Может быть, она и Марике откуда-то наблюдали, что происходило у подъезда.
И вдруг засеял плотной сеткой холодный дождь, гонимый северным морским ветром наподобие переувлажненного тумана.
— К дьяволу, — проворчал Магуна, — не хочу я мокнуть из-за этой дряни. Бросай. Кончим после дождя.
Фельдфебель напомнил приказ, запрещающий Альберту отлучаться из дому, и полез в кабину к водителю. Коротконогий и румяный прыгнули в кузов.
Дождь пошел крупней и обильней.
— Трогай, — сказал Магуна.
Тогда Альберт подбежал к машине и попросил у Магуны разрешения прикрыть реликвии брезентом Магуна, подумав, согласился:
— Принесите и покажите брезент.
Альберт принес. Брезент понравился Магуне. И он взял его к себе в кабину.
— Я организую брезент. Это — хороший товар. А ваша рухлядь может немножко и помокнуть. Все равно в печке у нас высохнет. Идите спокойно к себе в дом. Проститесь с вашим имуществом перед разлукой. После дождя мы приедем и заберем оставшиеся картинки и прочие штучки.
Машина тронулась. Альберт вошел в дом.
В передней у порога валялась оброненная связка архивных бумаг из музея. Альберт поднял связку, осмотрел. То была история «пламенеющей девушки».
Альберту вспомнилось, как он собирал и хранил реликвии своего города; вспомнились вечера, когда он разбирал бумаги и читал о благородных делах своих сограждан, вспомнились тихие гордые думы о славном прошлом бельгийского народа, о величии трудолюбивой маленькой Бельгии; и ему захотелось прижать к груди этот сверток пожелтевших бумаг, спрятать, сохранить их.
Альберт заставил себя успокоиться. Он решил все хладнокровно взвесить и обдумать: итти ли на немедленное столкновение с немцами или выжидать и маневрировать сообразно тому, как пойдут дела у немцев на фронтах?
Альберт подумал о битве, которая в это время идет под Москвою. И снова ему показалось странным, что личная судьба его, Альберта ван-Экена, гражданина Бельгии, никогда не выезжавшего за пределы своей страны, потомка цеховых мастеров средневековья, может быть, никогда не слыхавших ничего о Московии, теперь попала в какую-то зависимость от событий, совершающихся в этой далекой стране.
Он помнил из своих детских лет, что до войны четырнадцатого года в его родном городе не было почти ни одной семьи, которая не была бы как-нибудь связана с Россией: одним случалось самим работать на южных русских заводах, в шахтах Донецкого бассейна, на Урале, в трамвайных и электрических компаниях русских городов; у других в России служили близкие или дальние родственники; третьи держали свои сбережения в процентных бумагах бельгийских акционерных обществ, действовавших в России. По витринам банковских, маклерских контор ему, как и всем в городе, были хорошо знакомы разные русские географические названия, вроде Старая Константиновка, Кривой Рог, Екатеринослав, печатавшиеся крупным шрифтом в объявлениях о продаже и покупке акций и облигаций. Все, что он после того, уже взрослым, узнавал о России, было всегда противоречиво и спорно. Может быть, он мог бы теперь построить на этом какие-то надежды. Но делать практические расчеты на то, что произойдет там, под Москвой, он решил, что не может по здравому смыслу.
Альберт подошел к столу, взял бумагу и написал записку майору. Он просил майора дать ему еще хотя бы самое короткое время на размышление, пока же приостановить вывоз вещей из его собрания городских реликвий.
Написав, Альберт испугался того, что он сделал: не будет ли это непоправимым шагом, после которого все пойдет независимо от его воли и желания?
Чтобы успокоить себя, он достал из ящика валонскую миниатюру, которую утром он рассматривал, когда вошла к нему Луиза, Альберт взял в руки лупу. Руки его дрожали. Он отложил миниатюру. Сомнение, предчувствие, недовольство собой его одолевали. Силы его гасли. Альберт почувствовал, как бесконечно он несчастен. Он забылся, погрузившись в темное отчаяние.
Все замерло в нем и остановилось. Альберт заснул. Но и во сне он помнил, что он непоправимо несчастен.
Проснулся Альберт от крика и возбужденных голосов в передней. Он быстро вскочил на ноги. И еще раньше, чем успел осознать, что он проснулся, он подбежал к столу. Повинуясь какому-то инстинкту, который все время оставался в нем бодрствующим и ни на миг, даже во сне, не давал ему забыть о том, что он решился на постыдный шаг, он схватил написанную им записку к майору, разорвал ее и бросил в корзинку. Затем ему показалось, что куски, на которые он разорвал записку, слишком велики и по ним можно прочитать, что было написано. Тогда он опустился на корточки, достал из корзины разорванные куски и начал их разрывать один за другим на более мелкие. Не успокоившись на том, он собрал все куски в ладонь и бросил их в камин.
И вдруг его объял ужас: неужели совесть его так нечиста? Но ведь он еще ничего не совершил, значит, даже только намерение его было постыдным.
Крик в передней повторился. Это кричала Марике. Альберт бросился к ней.
Но что же это такое? Что он видит? Возможно ли? Неужели есть еще радость на свете и счастье? Это — Матье. Очевидно, он вошел через подземелье.
Вот он стоит высокий, костлявый, худой. Его огромные глаза сияют улыбкой, а могучие длинные руки подняли на воздух Марике. Луиза стоит рядом, хмурится и вытирает слезы. И Альберту кажется, что его несчастье было только сон.
Нет, ему кажется так всего только один миг. Вот Матье обнимает его и целует. И Альберт чувствует, что никакая сила на свете не избавит его от необходимости сделать выбор и принять решение в ту или другую сторону. И даже если теперь в дом пришла неожиданная радость, то рядом с нею его несчастье станет еще тяжелей, а выбор дороги еще более неизбежным и обязательным.
* * *
Запершись на все двери, братья, Марике и Луиза сели за стол.
— Недостает только, чтоб Луиза подала гёз-ламбик[1], — сказал Матье. Он сидел рядом с Марике и держал ее руку в своей руке. Он был нежен с нею и ласков, с братом и с Луизой мягок и внимателен.
— Да это совсем не Матье, — пошутила Луиза, — бывало Матье все больше молчал, насупившись, или говорил только обидное и насмешливое. Но все-таки ты, гляжу я, племянник, и не больно весел. Какая-то горечь у тебя на душе. И гордости прежней нет. Все гнешься к земле, будто мешок тяжелый на плечи вскинул. И глаза твои не нравятся мне: печаль в них.
Альберт засмеялся на слова Луизы.
— Нет, тетя, теперь-то он и есть настоящий наш Матье, каким был