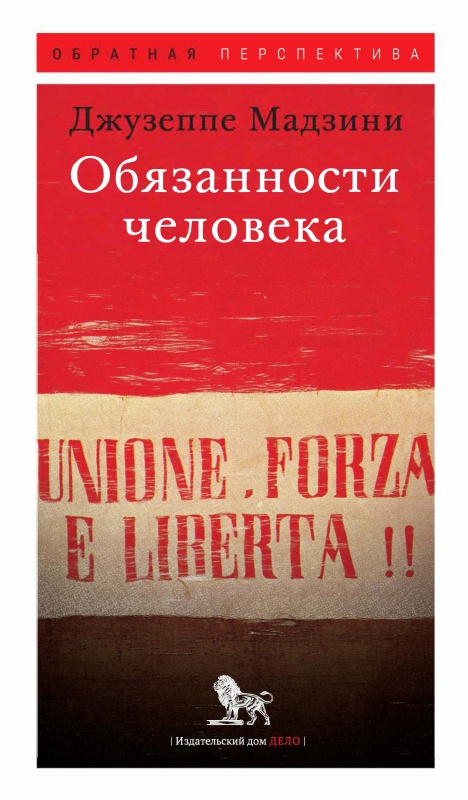Книга Жорж Санд, ее жизнь и произведения. Том 2 - Варвара Дмитриевна Комарова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И потом, ведь принцесса видела, как я сбросила свою лень в дни, когда я заметила у нее припадки сплина, и когда думала (это она своими любезностями внушила мне это самомнение), что моя болтовня может ее развлечь, утешить, поддержать... В те дни я писала ей то, чего теперь уже я более не призвана писать ей, ибо мне кажется, что она спокойна, счастлива и сильна. Чтобы говорить, как мой друг Пьер Леру, я скажу: «Моя миссия окончена»... или: «Ныне отпущаеши».
Очень возможно, что я как-нибудь приеду к вам в Италию. Однако, это путешествие, которое я планирую на будущую весну, теперь мне кажется менее верным, т. е. время его. Мой процесс с издателем, который я хотела бы покончить до того, отложен до июля или августа. Если я принуждена буду заняться им, я перееду горы лишь осенью. Раз я попаду в Италию, я останусь там года на два для занятий Мориса, который решительно принимается за живопись, и которому надо будет пожить в Риме...
V.
Г-же Жорж Санд у г-жи Марлиани.
В Испанское Консульство, улица Гранж-Бательер.
15 июня 1838 г.
Ваше письмо было мне большой отрадой, дорогой друг (ибо вы воспрещаете слово «мадам», и вы правы). Я получил его среди большого горя...
Рассказывая затем о смерти жены Жана Рено и о том, что он, Леру, предварительно свозив его в Шантильи к его матери, теперь везет его в Альпы, – он прибавляет, что
Хотел бы познакомить его с вами, чтобы он полюбил бы вас настолько же, насколько я восхищаюсь вами.
Итак, Морис поправился, он с вами... Соланж тоже... Останьтесь здесь лишний день для мадонны.[28]
Я увидел на вашей печати: Italiam. Значит, вы едете!..
Ваш навсегда Пьер Леру.
VI.
Из письма Жорж Санд к майору Пиктэ.
Октябрь 1838 г.
…Мы пробудем здесь (улица Гранж-Бательер) еще недели две. Весьма возможно и даже вероятно, что лето мы проведем в Швейцарии. Здоровье моего сына лучше, но доктора предписывают ему теплый климат зимой и прохладный летом.
Итак, мы скоро будем в Женеве, а затем и в Неаполе. Укажите мне, в каком краю вашей страны, диком и живописном, я могла бы приехать поработать; мне нужно бы умеренный климат для Мориса, а для меня – мужиков, говорящих по-французски. Окрестности Женевы не кажутся мне достаточно энергичными в смысле пейзажа, и я хотела бы избежать англичан, а также лечащихся водами туристов и т. д. Я хотела бы также жить подешевле, ибо выиграла два процесса, но разорена...
Как уже известно читателю, ни в Италию, ни в Швейцарию Жорж Санд осенью 1838 г. не уехала, а уехала на Майорку, и, как известно также, кроме ее детей, в этом путешествии ее сопровождал также Шопен.
С трепетом и волнением начинаем мы повествование о взаимоотношениях Шопена и Жорж Санд. Мы уже не говорим о том, что симпатия наша совершенно раздваивается, что мы не можем даже решить, кто нам ближе и дороже из этих двух великих друзей, кого мы любим глубже и преданнее.
Но как рассказать душу – чуткую до болезненности, непонятную, скрытную, невысказанную и невысказывавшуюся, глубокую, исключительную и выражавшуюся только в звуках, в одних звуках, жившую и говорившую лишь музыкой? Как передать все капризные настроения, неуловимые переходы и оттенки этой души-мимозы, крайне своеобразной, нетерпимой ко всему стадному, пошлому, всеобщему; инстинктивно чуждавшейся всего вульгарного, крикливого, понятного толпе и любимого толпой; равно далекой от житейской прозы, от житейского шума, как и от житейской борьбы; стоявшей неизмеримо выше всяких партий, вожаков, глашатаев, ораторов, временных героев и божков, – всего, что и кто кажется важным и необыкновенно нужным в данную минуту, а через десять-пятнадцать лет, сделав свое муравьиное дело, сходят со сцены, как марионетки, кончившие представления, и, как марионетки, забываются? Как читателю, может быть, незнакомому даже с музыкой, объяснить душу, говорившую только музыкой, да и в музыке говорившую на необычайном языке, своем собственном, новом, чуждом всякой тени общедоступности, тривиальности, пошлости, всех общих мест, казенных фраз, всеобщих выражений?
Как объяснить, что тот, кто начинает свою первую Балладу этим вопросительным, точно словами говорящим речитативом, останавливающимся на диссонансе; кто гневается и негодует, как в этюде C-moll, прелюде B-moll (№ 16), с этим полным отчаяния вступлением, или в трагическом полонезе Fis-moll; кто бесстрашно и словно шутя модулирует так, как мы это видим в Cis-moll’ном прелюде (ор. 45), не боится признанных немецкими теоретиками «невозможными» разрешений и самых широких, новых расположений; у кого скорбь глубока до такой простоты, как в C-moll’ном ноктюрне или прелюдах C-moll, H-moll и E-moll, которые сыграет ребенок, а редкий из пианистов сумеет понять и передать, как следует, что эта величайшая из великих душ, глубочайшая из глубоких, тончайшая из тонких?
Но иного мы ничего почти сделать или сказать не можем. В жизни это был сдержаннейший из сдержанных человек, никого почти не допускавший заглядывать в тайники своей души. Хотя писем его осталось немало, да они, особенно во вторую половину его жизни, мало передают нам его. Словами он почти не высказывал себя. Он старался быть всегда корректным, светским человеком и ничем больше. Вот к кому как будто вполне применимы слова другого избранника:
«Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен»...
Но и это лишь «как будто», ибо даже все эти заботы Шопена о фешенебельности своей особы, пристрастие к модным портным и к аристократически-избранному кружку знакомых, к обоям нежного жемчужно-серого цвета, к жардиньеркам, цветам, изящной обстановке, и изысканная мягкость обращения, и внешнее изящество манер, – во все это душа великого музыканта даже внешне не «погружалась», это было даже не старанием о прекрасной форме, а лишь невольным отпечатком изящной души, всецело владевшей своей хрупкой, изящной, нежной оболочкой. Это все делалось невольно, нечаянно, в силу невозможности делать, говорить или поступать иначе, менее изысканно, менее изящно, менее деликатно.
И если мы, как всякий автор, желали бы возможно большего круга читателей для нашей книги, то для этих страниц мы хотели бы возможно меньшего. Мы хотели бы, чтобы ее читали или одни музыканты, или одни изысканные, болезненно-чувствительные, исключительные натуры, – люди, для которых все «общедоступное» так же безвкусно и пошло, как картинка на коробке конфет, как олеографическое приложение к «общераспространенному» журналу, как газетный патриотизм или газетный либерализм, как обязательный пирог в день ангела, как