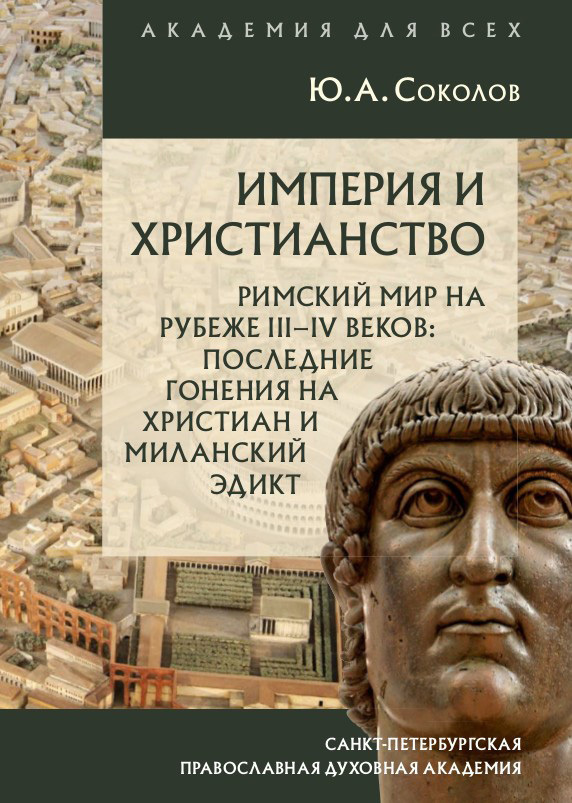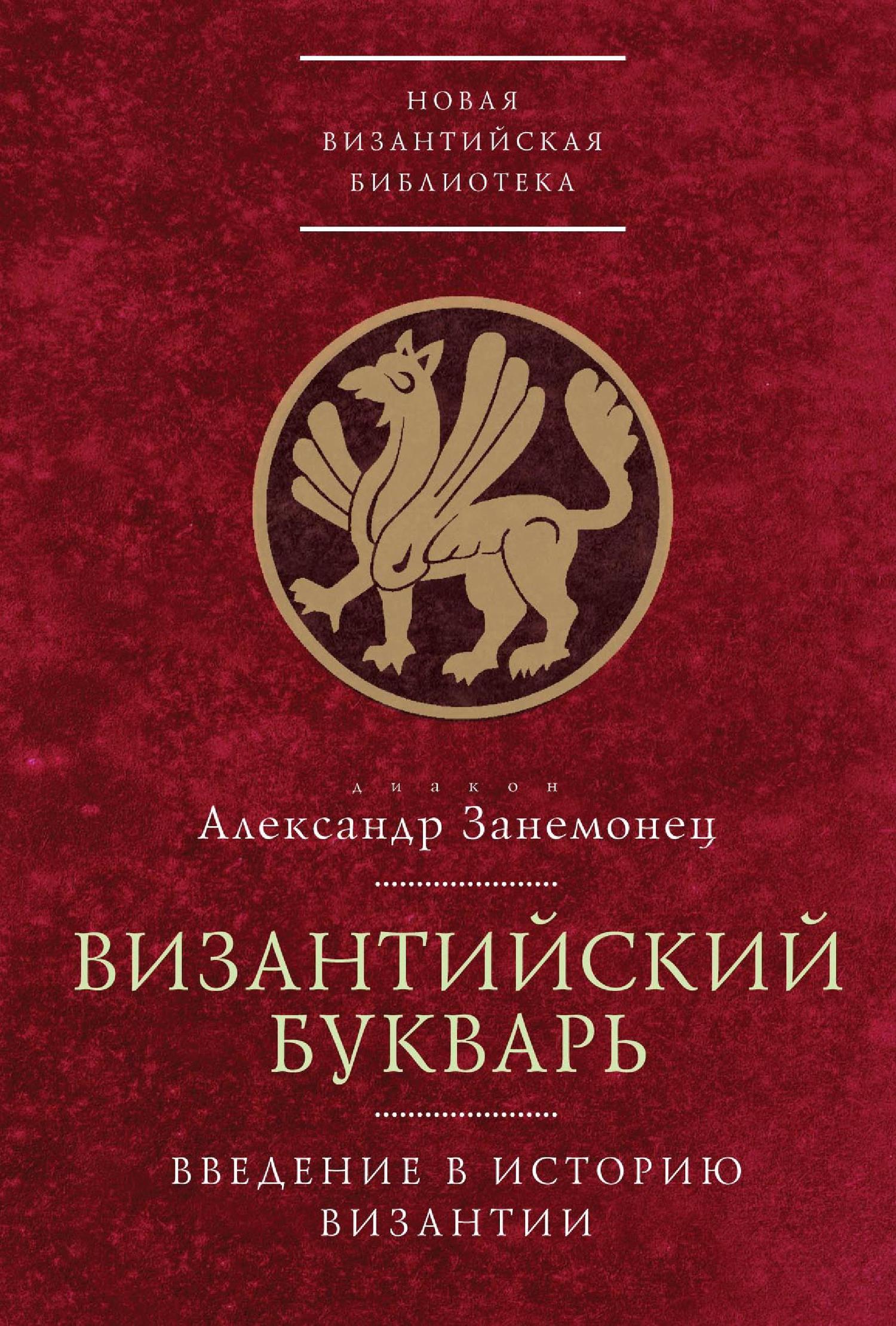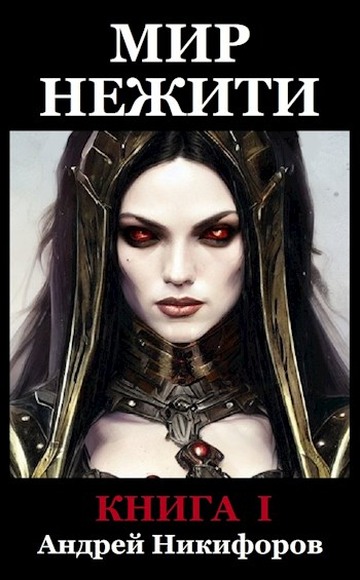Книга Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир? (5-е изд., перераб. и доп.) - Андрей Вячеславович Кураев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Удивительные свидетельства: на вершине покаяния надо уметь совместить в себе два как будто несовместимых самоощущения. С одной стороны — «mea culpa», моя вина, мой грех… А с другой — «это не я». Так больной приходит к врачу, показывает свою руку с занозой и молит: «Доктор, это по моей дури эта заноза оказалась во мне. Но ведь эта заноза — это не я! Можно ли сделать так, чтобы заноза была отдельно, а моя рука — отдельно?!» В покаянии человек с силой отталкивается от своего прошлого, сбрасывает его с себя, кричит ему в лицо: «Я больше не хочу как прежде жить!», а оборачиваясь к Богу: «Я больше не хочу Тебя терять!»
Покаяние действительно может менять прошлое (во всяком случае его влияние на настоящее). На вопрос: «Если Бог всемогущ, то может ли Он сделать бывшее небывшим?» христианская традиция покаяния говорит: да, может — если прошлое будет раскаяно… Некогда один монах попробовал освободить от беса приведенного к нему одержимого человека. Бес же заявил, что монах сам принадлежит ему… «Услышав это, брат, знавший кое-что за собой, отошел и ушел. Отыскав священника, он исповедал ему те грехи, о которых особенно сокрушался, и вернувшись назад, сказал бесу: „Скажи-ка мне, несчастный, что я сделал такого, за что должен быть твоим?“ Отвечал ему бес: „Немного раньше хорошо я знал это, а теперь ничего не помню“»[49].
Эта идея «пластичности» человека, его переменчивости и, значит, сложности очень многое породила в европейской культуре. Вся русская классическая литература с ее заботой о «маленьком человеке» выросла из этой евангельской идеи.
Но сегодня неоязыческая идея «фатума», для пущей экзотичности назвавшего себя «кармой», вновь любо-дорога умам европейских неоязычников. И оккультисты даже сетуют: мол, люди, избалованные христианством и привыкшие к мысли о своей свободе, не сразу соглашаются с тем, что на самом деле вместо них «карма творит свое» (Рерихи. Беспредельность. 463). «Нелегко человеку принять истину о его зависимости. Ведь ту цепь существований не прервать, не выделить себя, не приостановить течение. Как один поток Вселенная!» (Там же. 193).
Если человек есть всего лишь микрокосмос, всего лишь частица Вселенной — тогда и в самом деле нельзя ни «выделить себя», ни «приостановить течение». Но если человек надкосмичен, если в его глубине есть выход к надкосмическому Богу, то человек может сопротивляться любым детерминациям и, вопреки всему, — стоять в свободе и истине. Насколько эта христианская убежденность в нашей свободе (без этой убежденности не могло бы быть и раннехристианского мученичества) была странна для язычников, видно из ее сегодняшнего неприятия неоязыческой теософией.
…«Жизнь дается только раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно». Это кристально антихристианская фраза. Жизнь и состоит в том, что человек каждое мгновение стыдится себя вчерашнего — и только потому и растет. Жизнь дается только раз — и потому жить ее надо так, чтобы каждое мгновение твоя совесть говорила тебе: ты поступил со мной неправо. Дар совестного жжения. Если за жизнь не стыдно — значит я не расту и умираю без покаяния… Покаяние радостно, потому что дарит надежду на обновление. Оно радостно, потому что открывает меня другого для меня же: я разнообразнее, чем сам думал о себе еще недавно… Очень точно об этом у Пушкина («Когда б не смутное влеченье»):
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
И все бы слушал этот лепет,
Все б эти ножки целовал…
И слушал бы, и целовал бы —
Когда бы не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души…
«Куда влеченье, что за жажда его томит теперь — не говорит: видно, слов таких нет, даже у него»[50]. Кстати, и другой русский гений, Достоевский, тоже отступал перед несказанностью этой новизны. Он подводил своих героев к покаянию, но никогда не описывал их следующую жизнь…
НЕКОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Выведя себя из природного контекста, человек смог осознать свое поведение в совершенно иной системе координат. Если человек — часть природы, то он не может оценивать свое поведение по иным критериям, нежели природные. Но природные феномены не подлежат нравственному суду. Персидские цари Кир, который мстил реке, потопившей его лошадь (Геродот. История, 1, 189), и Ксеркс, приказавший бичевать море, расстроившее его планы[51], — предмет насмешек даже в дохристианскую пору. Нельзя возмущаться поведением рек или животных. Нельзя обвинять Луну в том, что она устраивает нам солнечное затмение, и, соответственно, объявлять ей выговор с занесением в личный гороскоп!
И если быть логичным — то нельзя возмущаться и поведением преступника. Чтобы оправдать применение нравственных критериев в восприятии человеческих действий, философия должна осознать радикальное отличие человека от природы.
Осознав свою внеприродность, человек приобрел право пользоваться двумя различными языками: он смог описывать явления природы на неантропоморфном языке, не приписывая камням и звездам человеческие страсти. Но и себя человек смог осознавать и оценивать по внеприродным критериям. Раз «живем мы в этом мире послами не имеющей названья державы» (Александр Галич), не стоит слишком большое значение придавать тому обстоятельству, что природа неподвластна нравственным законам. Человек-то внеприроден, а потому ценим по неприродным, нравственным критериям.
Так родилось то самое кантовское доказательство бытия Бога, за которое Иван Бездомный хотел сослать философа «в Соловки годика на три». Первый тезис Канта: все в мире подчинено закону причинности. Все события в мире соединены причинно-следственными связями, и ничего в нем не происходит без надлежащих причин, с необходимостью вызывающих к бытию свои следствия. Второй тезис: если человек тоже подчинен этому закону, то он не может нести нравственную ответственность за свои поступки. Третий тезис: если мы утверждаем нравственную вменяемость человека, мы должны постулировать его свободу. Вывод: следовательно, человек, живя в мире, не подчиняется основному закону мироздания. Значит, человек неотмирен, то есть обладает статусом экстерриториальности. Ничто в мире не может действовать свободно, а человек — может. Значит, человек есть нечто большее, чем мир. Таким образом, в человеческом нравственно-свободном опыте проступает иное измерение бытия — бытия, не ограниченного пространством, временем, детерминизмом и одаренного свободой, нравственностью и разумом. Такое бытие на языке философии именуется Богом. Человек свободен — а значит, бытие богаче, чем мир причинности; человек свободен — а значит, «морально необходимо признавать бытие Божие»…[52]
Дело в том (и это прекрасно показал И. Кант), что в природе