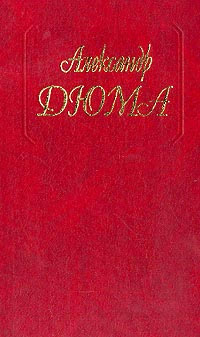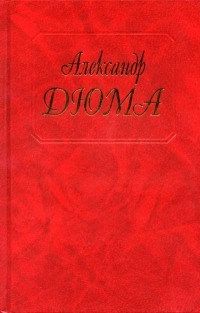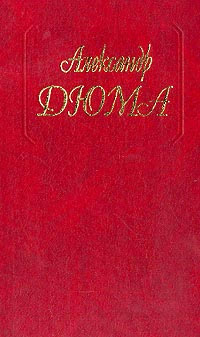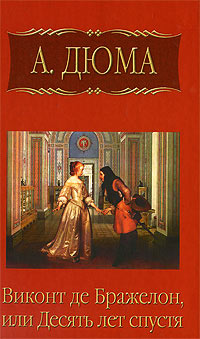Книга Ашборнский пастор - Александр Дюма
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я слишком хорошо знал свое право не быть знакомым с максимой «non bis in idem[2]»; наконец, как это свойственно по-настоящему мужественным сердцам, я черпал новые силы в самом моем поражении и, чтобы забыть о нем, спешил взять реванш.
Итак, с гордо поднятой головой, полный надежд, я отправился в путь. К несчастью, ректор обитал на окраине города!
Если бы он жил в десяти, двадцати, пусть даже пятидесяти шагах от дома моего хозяина-медника, то — у меня нет в этом сомнений еще и сегодня — я атаковал бы его с тем невозмутимым сознанием собственного превосходства, какое мне давало мое глубокое знание людей; но, как уже было сказано, ректор жил на другом конце города!
Пока я шел, найденные мною доводы начали представляться мне все менее убедительными и мне невольно вспоминалась столь простая речь моего хозяина-медника; сначала я отвергал ее высокомерно, поскольку эта речь, как я уже говорил ее автору, страдала прискорбным несовершенством формы; но, что столь же бесспорно, в ней было соблюдено одно из условий красноречия, правда условие второстепенное, submissa oratio[3], по выражению Цицерона, но, однако, обладающее своим достоинством — простотой.
Такое сопоставление моей речи и речи моего хозяина-медника заронило в моем уме первое сомнение.
Как лучше говорить с ректором — в стиле возвышенном или же простом? Следует казаться величественным или же естественным?
В тех обстоятельствах, от каких зависело мое будущее, вопрос этот заслуживал серьезного обдумывания.
На минуту я остановился, чтобы поразмышлять, не замечая удивления, выказываемого прохожими при виде человека, посреди улицы жестикулирующего и разговаривающего с самим собой.
Это обсуждение, на котором сам я выступил адвокатом стиля простого, причем выступил с беспристрастностью, способной сделать честь самым выдающимся юристам Великобритании, кончилось тем, что адвокат превратился в судью, вынесшего решение, достойное царя Соломона.
Согласно этому решению, в речи, с которой мне предстояло обратиться к ректору, следовало счастливо слить воедино стиль благородный и патетический со стилем простым и убедительным и таким образом со свойственным мне умением сблизить две противоположности красноречия для того, чтобы я мог повелевать своим словом, то давая ему волю, то обуздывая так, как ловкий возничий на колеснице правит двумя лошадьми разной породы: одной — горячей и порывистой, другой — покладистой и послушной, заставляя их идти одинаковым шагом и влечь колесницу к заветной цели с одинаковой силой и одинаковой скоростью!
Теперь речь шла только о том, чтобы слить обе речи в одну и, сочетав стиль возвышенный со стилем простым, создать стиль умеренный.
Я сразу же взялся за это.
Но тут возникла трудность — трудность, о которой я не подумал, но которая, ввиду нехватки времени для ее преодоления, встала передо мной неодолимой преградой.
Тщетно вспоминал я все предписания древних и современных авторов насчет сочетания простого и возвышенного: положение представлялось мне непохожим ни на какое-нибудь другое, а две речи — единственными, не поддающимися этому счастливому слиянию.
Хуже того, неведомо почему, мне казалось, что они испытывают взаимную антипатию, как это бывает между некоторыми людьми и между некоторыми расами, и я вспомнил в связи с этим ирландскую поговорку, которая с большей правдивостью, чем поэтичностью, живописует антипатию, разделяющую Ирландию и Англию:
«Три дня вари в одном котле ирландца и англичанина и через три дня увидишь там два отдельных бульона».
Так вот, дорогой мой Петрус, мне казалось, что между моей речью и речью моего хозяина-медника существует такая несовместимость, что, вари их три дня, а то и неделю в одном горшке, никогда не удастся превратить их в единый бульон.
Я еще предавался моему умственному труду и философским размышлениям, когда внезапно с ужасом заметил, что стою перед дверью ректора.
Расстояние, отделяющее его дом от дома моего хозяина, оказалось одновременно и слишком коротким и слишком длинным!
Согласитесь, дорогой мой Петрус, что подобного рода неприятности независимо от всех человеческих расчетов направлены исключительно против меня…
Это неблагоприятное для меня обстоятельство привело к тому, что мою речь, которая мне и сегодня представляется неизмеримо выше речи медника, я мог бы произнести не прерываясь и, следовательно, вызвал бы громоподобный эффект, если бы дом ректора, как я уже говорил, отделяли от дома моего хозяина только десять, двадцать, пусть пятьдесят шагов; если бы дом ректора, вместо того чтобы стоять от дома моего хозяина на получетверть льё, отстоял бы, например, на четверть льё, это привело бы к тому, что из двух речей, сплавленных воедино, могла бы выйти речь смягченная, пластичная, гармоничная; в действительности же дом ректора находился недостаточно далеко для того, чтобы хватило времени разрушить мою первую уже готовую речь, и слишком близко для того, чтобы из ее руин выстроить вторую — новую.
Так что я вошел к ректору, совершенно не ведая, что мне ему сказать, ибо ум мой разрывали две противоположно направленные силы; а поскольку, как Вам известно, дорогой мой Петрус, по закону динамики две такие равные силы взаимно уничтожаются, Вы не удивитесь, если я скажу Вам, что в ту минуту, когда слуга открыл мне дверь в прихожую ректора, мой ум полностью бездействовал.
Но у меня еще теплилась надежда: поскольку Господь щедро одарил меня то ли верой в него, то ли уверенностью в себе самом, этот щедрый дар надежды, который окрашивает будущее в самые яркие цвета, блекнущие, правда, по мере превращения будущего в настоящее, а настоящего — в прошлое, тем не менее сотворял из моей жизни долгую благодарственную песнь во славу Всевышнего.
Мне оставалось надеяться только на то, что у ректора окажутся посетители и он не сможет принять меня тотчас, а пока он освободится, я приведу в порядок свои мысли; обладая той ясностью суждений, какая составляет мою гордость, я рассчитал, что мне потребуется не более получаса для того, чтобы профильтровать и придать прозрачность моей речи, сколь бы мутной она дотоле ни была.
К несчастью, ректор оказался свободен.
— Господин ректор, — обратился к нему слуга, — вы позволите войти господину Бемроду, сыну покойного бистонского пастора?
Я услышал, как ректор неприятным голосом отозвался:
— Пусть войдет!
При этом ответе у меня покраснели щеки и выступил пот на лбу.
Слуга повернулся и пригласил меня:
— Входите, господин ректор может вас принять. Глаза мои застлало облако; покачиваясь, я двинулся вперед и сквозь это облако увидел сидящего за письменным столом человека лет сорока пяти в домашнем халате из мольтона, голову его покрывала камилавка из черного бархата; принял он меня, полуоткинувшись назад, положив левую руку на подлокотник кресла, а правой поигрывая инструментом, который сначала показался мне похожим на кинжал, но вскоре я разглядел, что это был обычный нож для разрезания бумаги.