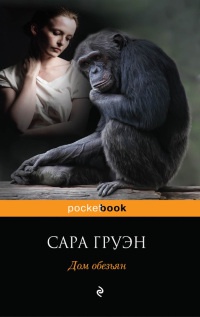Книга Опыты бесприютного неба - Степан Гаврилов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– К чему ты все это? – спрашивал я у старого, жирного, заплесневелого Кабанова. Тот, откашлявшись, замолкал, а потом продолжал свой рассказ.
«Мисс Молли, – скрипел после многозначительной паузы полковник, – назвала своего гаденыша в честь любимого писателя – Воннегута.
На героин Курту, шмотки (которые он тут же, сука, рвал), на авторские гитары (знаменитый гибрид «Мустанга» и «Ягуара», эскиз которого, вопреки легенде, нарисовал не сама звезда, а советские конструкторы, братья Дуболомовы, известные также как авторы гитар «Урал» и «Орфей») ушли дивиденды, которые должны были пойти на трансплантацию волос для отправившегося в отставку Михаила Сергеевича Горбачева и пластическую хирургию его небезызвестной метины. Нехило отломили и американскому Эм Ти Ви, чтобы те включили его мудацкие клипы в эфирную сетку.
Героиновому мальчику Кабанову, восходящей звезде, была оказана солидная материальная помощь. Именно в результате ее он и стал символом американского поколения начала нулевых. «Заметь, – скрипел и булькал полковник, – не «Соник Юз» с их интеллектуальным шумом, ни «Диносаур Джуниор» с их молотящим драйвом, даже не «Пиксиз», а именно середнячковая «Нирвана» прорвалась сквозь диско-бит восьмидесятых и обнаружила собой начало новой эпохи последнего поколения миллениума. Деньги на заре века еще решали все. Кстати, имя для группы я придумал. Это всего лишь прочитанное наоборот название села неподалеку отсюда – Анаврино. Мы там в семидесятых с помощью токсической сыворотки выводили ядовитых куриц. Букву “О” только пришлось убрать».
Я знал, что профессия журналиста – мерзкое занятие, но что меня так круто когда-нибудь занесет во владения старого маразматика, предположить не мог. Тот невозмутимо продолжал свой абсурдный и зловещий рассказ.
«Кобейн воплощал собой упадок западной цивилизации. “I hate myself and want to die”, – вдумайтесь, ведь это не просто поза. Даже сам старик Уильям Берроуз, ас саморазрушения, которого в свое время пытался завербовать Моссад (но он выбрал гомосексуализм), офигел от радикальной прямоты Кобейна. Тут стоит еще раз отметить, что Курт был ни при чем. Мальчик среднего таланта, воспитанный матерью- одиночкой, сидевшей на валиуме и страдавшей от неврозов, не мог сам по себе явить волю целого поколения – таких «символов поколения» в начале девяностых было как говна за баней. Ему помогли наши спецслужбы. Поверьте, мы могли сделать так, чтобы вы крикнули в пустоту: “Я ненавижу себя и хочу умереть”. Колыму вспомните, Шаламова. Что там творилось, в застенках Лубянки, – один дьявол знает. Но не об этом разговор. Разговор о том, что тысячи, сотни, миллионы подростков приняли идею саморазрушения на веру и возвели его в категорический, мать его, императив».
Курт, по их прогнозам, должен был застрелиться чуть позже. Новость, пришедшая из-за океана 5 апреля 94-го, для всех была неожиданностью. Но он сделал то, что сделал. «Знаете ли вы статистику по самоубийствам в США после гибели Кобейна? Нет, и никогда не узнаете. Это хранится в строжайшем секрете: проект “Реванш Кабанова” достаточно быстро после всего случившегося рассекретила американская контрразведка. Были даже какие-то публикации в газетах и журналах. Но тогда никто не обратил на это внимание: мало ли что там пишут журналисты».
Но, по агентурным данным, около полумиллиона пубертатов за полгода после смерти Кобейна умерло от асфиксии, вызванной разными механическими методами, от передозировки барбитурой, от огнестрельных ранений в голову и по другим причинам. Есть основания полагать, что все это – самоубийства. Эффект Вертера: салаги подражают примеру своего кумира безоговорочно. «Согласитесь, геноцид молодого поколения – изощренная плата наших спецслужб Штатам за развал страны».
Тут я попытался встать и уйти, было во всем происходящем нечто омерзительно-притягательное: рассказ длился примерно час, но я никак не мог оторваться. Старый маразматик схватил меня за руку и, глядя своими мутными зраками, другой рукой стал нащупывать ручку ящика в столе. Мне показалось, что сейчас он достанет нож и утыкает меня всласть. Но старику пришлось выпустить мою руку. Он немного порылся в ящике и бросил на стол несколько глянцевых фотокарточек. На первой в расфокусе на меня смотрел красивый ребенок. На второй мужчина средних лет держал этого ребенка на коленях. В мужчине я узнал молодого Кабанова, а в ребенке… Об этом было мерзко думать! Следующая фотография заставила меня сесть обратно в кресло. Кобейн с фиолетовыми волосами – после я наводил справки, такая прическа была у него аккурат после выпуска «Nevermind» в 1991 году, – обнимал одной рукой моего визави, только чуть помоложе.
Через год после этой истории возле моего дома поставили уличный лоток с рыбой. Я купил себе немного мойвы и разговорился с продавцом. Оказалось, мужик сам же и коптит продукцию, покупая сырье у заводчиков. Продавец сказал, что он «с области» и завернул мне рыбу в газету. Дома я развернул мойву и жадно стал поедать ее. Мой взгляд побежал по газете, которая называлась «Кыштымская новь». «Скончался добрый друг, преданный защитник родины, полковник…» – гласил некролог. Я отогнул страницу. Из-под пятен жира на меня смотрел моложавый, крепкий военный Кабанов времен альбома Nevermind. «Прощание состоится… в 12.00 по адресу…» – значилось в нижней части некролога.
Я вспомнил, что не кормил крыса и бросил ему небольшую мойву.
Это было довольно странное время. Мне скоро надоели городские сумасшедшие, униженные и оскорбленные – все те, из кого состоит контент федеральных телепрограмм и желтых газет. Я ушел с работы и стал жить чуть веселее. Иногда, как галлюцинации, всплывали люди из какого-то далекого прошлого, из подсознания моей жизни. Встреч и событий хватало.
Когда мне надоело в том числе и веселье, на пороге внезапно возникла моя старая знакомая Саша, дредастая путешественница и знатная любительница каннабиноидов. Стоял стылый март, и Саша вдруг предложила мне все бросить и рвануть на попутках в Питер. Сначала я отмахнулся от этого предложения, как от какого-то бреда, а потом вдруг понял, что Саша напомнила мне о чем-то важном.
Тогда, в мои двенадцать, почти сразу после эпичного отказа Лики, в один из теплых дней я вышел в лес и увидел прозрачное, не имеющее веса – но громадное, спелое мартовское небо. Следы от самолетов, в которых я никогда не был, резали его на неравные доли. Молчаливые, едва заметные, они царапали идеальную лазурную поверхность и растворялись в эфире.
С тех пор я и начал идти, и эти неумелые буквы, которые мне приходится выводить в текстовом редакторе, – что-то вроде путевых заметок. Вероятно, в первозданном виде их не прочитает никто из ныне живущих – первый попавшийся дождь размоет химический карандаш на цифровой рукописи и сотрет некоторые примечания. Навсегда уничтожится часть текста. Сбивчивость повествования – всегдашний атрибут этого письма.
Гулкое небо всегда над моей головой. Серебристые плавные изгибы, которые рисует проворная полупрозрачная точка пассажирского самолета, – тоже. И все так же неизменно: неизъяснимое, наэлектризованное и пронзающее все живое и неживое – это как оргазм, скорость которого замедлена в сотню раз. Есть основания полагать, что я так никуда и не сдвинулся, просто пространство слегка исказилось. Чуть-чуть.