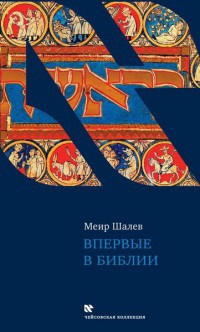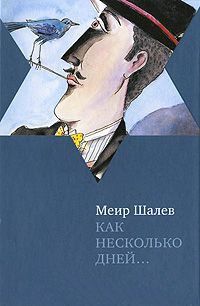Книга Фонтанелла - Меир Шалев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В глухую деревушку заброшенный войной,
Грустит в своей палатке пальмахник молодой.
Так далеко от дома он,
Где ждет его любимая,
Ее он вспоминает
средь тишины ночной.
Он вспоминает тропку, что вьется средь полей,
Где целовался жарко с любимою своей.
Но далеко любимая,
А он сегодня в армии,
И нужно к командиру
ему бежать скорей.
Но будет еще время, еще настанут дни,
Закончатся сраженья, и встретятся они,
Вернется он на родину,
И снова с ним любимая, Как будто бы она
и не прощалась с ним.
Я смотрю на Жениха и не верю своим глазам: он тоже поет. Только губы шевелятся, голос не слышен, но лицо счастливо. Потом он встает и помогает унести посуду, прибрать и навести порядок, прощается с товарищами и никак не простится, пока Шломо Шустер не говорит ему: «Давай, Арон, поехали».
Мы едем домой, во «Двор Йофе», и почти всю дорогу в машине царит молчание. Главная улица городка встречает нас безмолвием — суета предсубботнего полудня уже затихла, черед вечерних развлечений еще не наступил. Смиренная умиротворенность сумерек. Последние цветочные магазины снижают цены. Запахи пятничной варки поднимаются в воздух, а с ними — и по-весеннему ароматная теплынь, тоже из «тех времен» — времен «взаимопомощи», теплой пыли и голубых плетей свинчатки.
Ящики пустых пивных бутылок ожидают за стеной мини-маркета Адики. Рабочие, старухи и филиппинки уже ушли. Мы высаживаем Шломо возле его дома, вот уже поворот на Аллею Основателей, и наш «траксьон-авант» начинает медленно подниматься в гору. Ворота открываются. Въезжаем. Закрываются. Жених — к темному дому и к запертой там Пнине, а я — к своему освещенному дому, к сыну, лежащему в своей кровати с книгой, к дочери, работающей в городе, к сильному и приятному запаху лака и ацетона. Это Алона, красивая и веселая, сидит на кухне, напевает милую песню: «Двое уличных фотографов, Зевах и Цалмуна…» — и делает себе маникюр, готовясь к встрече со своими «пашминами».
* * *
На следующий день после покупки «Траксьон-аванта», на седьмом месяце беременности, у Пнины началось неожиданное и сильное кровотечение. Вначале она почувствовала тепло, потом мокроту, а затем оба ощущения соединились в настоящую реку крови.
Она оперлась о стену, подняла платье, посмотрела на пугающее зрелище и не удивилась тому, что ощущает счастье вместо страха и тревоги.
Она побежала во двор, остановилась возле ворот коровника и закричала так, что было слышно до самой Хайфы:
— У меня пошла кровь! Все кончено! — кричала она. — Он наконец умер, слышишь? Не будет у тебя сына!
Апупа вышел из коровника и застыл у входа, а Пнина продолжала кричать из-за паруса своего платья, подняв его обеими руками, чтобы отец мог видеть ее намокающее красным белье и карминовые змеи, медленно ползущие по белизне ее тела.
— Вот его кровь вытекает! Вот, по моим ногам. Твой сыночек сдох!
Апупа, который крайне редко чувствовал страх, на этот раз испугался и даже крикнул ей в ответ что-то вроде:
— Это не его кровь, это твоя!
А Амума, внутри дома, услышала крики, выглянула в окно, увидела — и завопила, как вопят сейчас все Йофы в подобных случаях:
— Арон! Быстрей сюда! Заводи сейчас же свою машину!
Сам Жених не любит вспоминать тот ужасный день, как не любит вспоминать обо всей этой истории с беременностью Пнины. Но в тот единственный раз, когда он рассказывал мне об этой поездке, он сказал с гордостью:
— Все, кроме меня, кричали и не знали, что делать, а я повез Пнину в больницу, и это был первый выезд моего нового «ситроена-аванта» за пределы деревни.
Он быстро прихромал с заводной рукояткой в руке, сумел завести машину уже со второго оборота и в последний момент еще успел бросить на сиденье старое полотенце. Но оно не помогло, и пятна Пнининой крови — выцветшие и уже невидимые глазу, не имеющему специальных йофианских приборов [не вооруженному линзами памяти и знания], — все еще заметны на обивке переднего сиденья.
— Я все перетерплю, Пнина, и эту твою беременность, и всё, и я прощу, и я забуду, и я буду тебе хорошим мужем, — сказал он ей по дороге и повторил. И когда Пнина не ответила, добавил: — И пятна на обивке я тоже забуду. — И тут вдруг услышал голос Амумы, которая в разгар суматохи незаметно проскользнула в машину и села на заднее сиденье:
— Хватит, Арон, помолчи, лучше поезжай быстрее.
А Пнина только шептала: «Ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех…» — оставшемуся дома отцу, и своему «зибеле»-недоноску, что боролся за жизнь в ее животе, и тому красивому мужчине, который ее обрюхатил, и своему будущему мужу-уроду, который вез ее в больницу. «Ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех, ненавижу вас всех…» — как бесконечный поезд, который со стоном и скрежетом, тяжело дыша, остановился лишь в ту минуту, когда преждевременные схватки начали разрывать ее тело.
Спустя час, в больнице, она родила своего единственного сына, страшного на вид недоноска, весом всего в полтора килограмма, который выскочил из ее нутра полумертвым, но живым, и, что еще страшней: его тело, багрово-синее, фиолетово-черное, как у выпавших из гнезда птенцов, и его лицо — лицо старческой мумии, костлявое и сплошь поросшее волосами, — вызвали у нее любовь.
— А на самом деле, — сказала Рахель, и мое сердце окаменело еще до того, как она окончила предложение, потому что моя фонтанелла уже рассказала мне эту историю и я уже знал ее ужасное продолжение, тот единственный секрет, которого до сего дня не сообщили ни одному человеку, — на самом деле у нее родились близнецы: мальчик Габриэль и еще дочь, девочка, тоже недоношенная.
Ну, честнее, Михаэль, смелее, без стеснения.
— Моя сестра не знает об этом до сегодняшнего дня, и ее муж не знает, и мой отец не знает, и Габриэль тоже, потому что ребенку не рассказывают, что он родился живым, а его сестра родилась мертвой. И годами никто не говорил об этом, и тебе я тоже рассказываю при условии, что ты не расскажешь семье, но однажды, когда Габриэлю было уже два месяца, пришла из больницы акушерка, принимавшая его, женщина из мошава Нахалаль, посмотреть, как он развивается. Дала Апупе несколько указаний, а потом пришла в барак к Амуме, закрыла за собой дверь и сказала ей: «Мириам, я понимаю, что дело здесь непростое, но я должна рассказать тебе кое-что еще, потому что я уже не могу держать этот секрет в себе». И рассказала, что первой у Пнины родилась девочка размером с мышь и, как мышь, вся в волосах, недоношенная, умершая еще в животе матери, «а за ней этот мальчик, полумертвый, но живой».
Несколько дней Амума ходила, как безумная, потом вырастила вокруг своего гнева новую кисту и так носила в себе этот секрет до самой смерти, а перед смертью позвала Рахель, рассказала ей и сказала: «А ты реши, кому передать его, когда придет твое время».